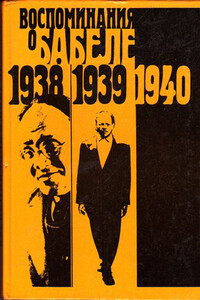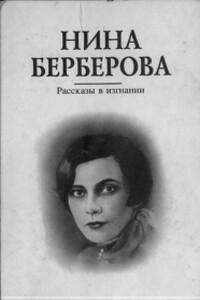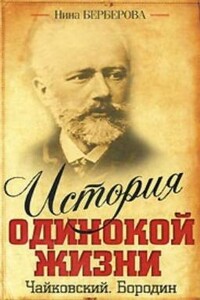Железная женщина | страница 51
Латвия и Литва после Октябрьской революции были частично заняты Красной Армией, но Эстония оставалась под немцами: здесь были «белые» русские, которые старались установить с «белыми» эстонцами и немецким командованием контакт; здесь были «красные» эстонцы, которые работали подпольно и были в связи с большевиками в Москве, на которых они работали; здесь были «самостийники», требовавшие полной автономии для Эстонии; местами шла спорадическая «партизанская» (тогда это слово еще не было в ходу) война.
Линия фронта была отчасти установлена между большевистской Россией и Эстонией еще до января 1918 года, но после Нового года немцы начали то тут, то там продвигаться к Двинску и Пскову. Еще в декабре 1917 года, когда Мура вернулась, можно было пробраться из Эстонии в Петроград пешком или на телеге (что Мура и сделала), с риском быть подстреленным на границе, т. е. в военной полосе, но уже в феврале, когда 21-го числа был взят Двинск и немцы 25 февраля стали под Псковом, заняв Режицу, этого сделать было нельзя, а уж после 3 марта, когда был подписан Брест-Литовский мир, съездить в Эстонию на две недели было так же невозможно, как съездить в Париж. Те, кто там жил в это время, прекрасно помнят, что связи с русскими столицами не было никакой. В январе, когда эстонцы объявили Эстонию самостоятельной республикой, между красноармейскими и германскими частями происходило кратковременное братание, но в феврале – марте, когда немцы двинулись на Петроград, нелегальные переходы в обе стороны совершенно прекратились. Немцы, таким образом, оставались оккупантами до ноября 1918 года, когда большевики прекратили борьбу, но отношений с эстонцами еще не завязали. Только Версальская конференция окончательно решила судьбу всех трех прибалтийских государств.
Таким образом, если предположить, что Мура рискнула жизнью для перехода эстонской границы (справедливее будет назвать ее фронтом), оставив в Москве Локкарта, если предположить, что она внезапно решила повидать своих детей, которых она оставила по своей воле более восьми месяцев тому назад и от которых она не могла иметь со дня разлуки известий, и сделать это в сложный для Локкарта момент, совершенно невероятным кажется ее второй переход обратно в Россию и то, чтобы она рискнула во второй раз повторить такой опасный шаг и вернуться ровно через две недели, как она обещала, как если бы съездила туда с заранее купленной плацкартой. Но мог ли Локкарт не знать, что вот уже год, как в Ревель не ходили поезда? В это время московские газеты (и петроградские, конечно) каждые три недели писали о том, что происходит в Прибалтике: об ужасах германской оккупации, об аресте красных эстонцев. «Петроградская правда» не переставала напоминать об этом: 13 июня была статья о наступающем в Эстляндии (так страна называлась до 1919 года) голоде (немцы все вывозили в Германию); 7 августа – о вывозе самого населения на работы в Германию: 11 августа – о немцах, терроризирующих местное население, и т. д. Как будто не знать всего этого Локкарт не мог, а между тем, полностью доверяя Муре, он мог не сопоставить эти факты с ее поездкой, быть может, бессознательно избегая глубже заглянуть в ее план. Сам он, когда ездил в Петроград, ездил в поезде Троцкого, а в Вологду ему дали отдельное купе на четырех, в спальном вагоне.