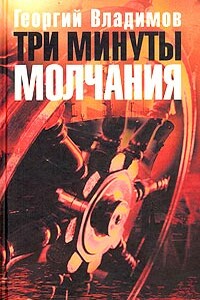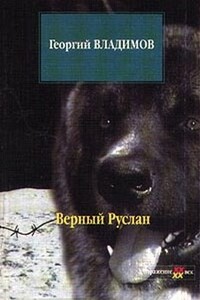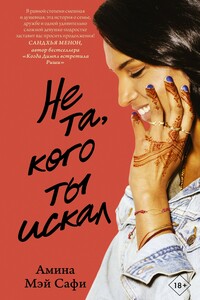Не обращайте вниманья, маэстро | страница 14
- Кто-то же должен и на злобу,- утешал Коля-Моцарт.- Вы не менее важное делаете.
Мордастый, однако же, на лесть был не падок и коротко перебивал:
- Бельгиец был?
- Час проговорили с четвертью, - ответствовал Коля. - Мы едва успели кассету сменить.
- Что-нибудь вынес?
- Отчетливо сказать нельзя.
- А какая у нас техника? - жаловалась дама. - Одно мучение!..
- Да, и этот черт бельгийский берет так ловко, что и не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передает. Вот бы кого по-крупному опорочить!
- А Хельсинки? - спрашивал Коля. - За письма его ж не выдворишь.
- Что Хельсинки? Его на иконах надо подловить. Большой любитель нашей старины! Кто еще был?
- Из посольства Франции - на машине с флажком.
- Один шофер или кто поважнее?
- Шофер.
- Ну, это он приглашение привозил - на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял для передачи, французы - они осторожные. Кто еще?
- Ахмадулина приезжала на такси.
- Беллочка? - оживлялся мордастый. И опять вздыхал печально. - Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в темном царстве. О чем говорили?
- Хозяина не застала, с женой поболтали полчаса. Все насчет приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.
- Ясно. Стихи новые почитаем. И напитки, конечно, будут - умеренно. По уму.
- Сапожки немодные у нее, - вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства. - Наши таких уже сто лет не носят. И шапочка старенькая.
- Так ведь когда у нее Париж-то был! Пять лет назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.
Черт бы побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина - и я прозевал ее. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю ее книжку для автографа, не высказал, чту я о ней думаю. А если и правда, что "поэт в России - больше, чем поэт", то, может быть, наше безвременье назовут когда-нибудь временем - ее временем, а нас, выпавших из летосчисления, ее современниками? Но про меня - кто это установит, где будет записано? Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону лишь договариваемся о встрече, а встретясь, киваем на стены и потолки, все важное - пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжигаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они - даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливаем, петляя, "раскидывая чернуху", неутомимые эти труженики наши, ревнивые следопыты, проделывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю - по крохам, по щепоткам, по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг - при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктирные нити наших судеб. Мы что-то могли потерять - у них ничего не потеряется! Все будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, и прошу у тебя прощения! Когда все это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь востребовать по простому абонементу, ты мог бы - выбеги я к подъезду! - услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съемку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивленно, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь покрепче держать в руках. И, поскольку возникло бы подозрение, что я через нее предупредил наблюдаемого, ты нашел бы в этой папке все обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты б тогда составил полную картину, что же собою представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.