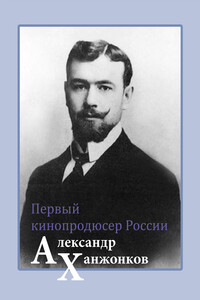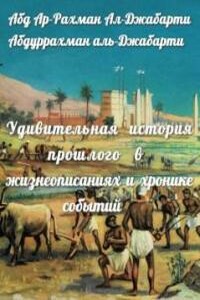Мамин-Сибиряк | страница 55
— Революцию не приводят, она сама придет, мыслящие реалисты — вот новые люди.
Большинство было за то, чтобы бросить семинарию и пойти в высшие учебные заведения. Называли университеты Петербурга, Москвы, Казани. Иные университетскую науку считали пустой, заоблачной, оторванной от народной жизни. Дело полезное получишь, считали они, только в Медико-хирургической академии, в Технологическом институте или в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Мамин соглашался с ними.
Заговорили и о том, на какие средства жить в столицах. Много ли дает репетиторство, если всерьез нужно заниматься науками. А там ведь и театры не обойдешь. А сколько книг, учебников потребуется. Отцовская мошна для столиц тоща, да и стыдно на родительских шеях столько сидеть.
— Мне еще в прошлом году Павел Серебренников отписал, что пермские студенты производственную артель образовали, — вспомнил Дмитрий. — Сняли вскладчину за пятьдесят четыре рубля в месяц целый дом и открыли переплетную мастерскую. Заработок невелик — двадцать, тридцать копеек в день, но жить можно.
— Это дело, — сказали все. Соглашались на все, хватались за соломинку, чтобы выплыть из семинарии и достичь обетованной земли столиц.
…Ночью Дмитрий не мог заснуть — размышлял о неведомых путях-дорогах.
«Я, как всякий другой, годен, только не знаю, на что я больше годен, — говорил он себе. — А годен я потому, что желаю неизменно работать… Надеюсь найти то, что ищу. Ищу же этого так упорно и так долго потому, что в своей жизни насмотрелся довольно, что значит взяться не за свое дело».
Дмитрий думал, что он уже нашел — естественные науки. Но главный поиск, главный прорыв к делу всей жизни ждал его впереди. Не за свое дело он все же возьмется, убьет на него время, но решительно и бесповоротно бросит. Литературная страсть едва просыпалась, была невнятной. После сдержанной похвалы Соколова он как-то по-иному стал относиться к тому, что писал: было ли это классное сочинение или письма домой. Он вдруг почувствовал, что слово не терпит к себе небрежного отношения и назначение его не только сообщать о чем-то. Пишем мы, как колотые дрова сваливаем — слова не звучат, не поют, а стучат тупо, словно деревяшки. В доме губернского чиновника, где он репетиторствовал, стоял в настройке рояль со снятыми струнами. И мальчик, которому трудно давалась русская грамматика, — наверное, у него был музыкальный слух, — расплакался, когда по привычке побежал к роялю и тронул клавиши, а звука сладкого не последовало, только сухо простучали костяшки. Вкус к выбору слова, интерес к поиску места, где этому слову будет ладно стоять в ряду других, — почти мистическое ощущение. Как-то, когда никто не мешал, Дмитрий просидел допоздна, составляя план будущей семинарской повести. Увлекшись, он набросал некоторые эпизоды, копируя их с действительности. Делал это старательно, веруя, что пишет художественно. Друзья, должно быть, замечали новые занятия Мамина, но не придавали им значения: кто не баловался среди них пером. Е. В. Бирюков запомнил, что твердо о писательстве Мамина никто не знал: «Слухи были, что он что-то пописывает, но что и куда посылает, мы не знали достоверно».