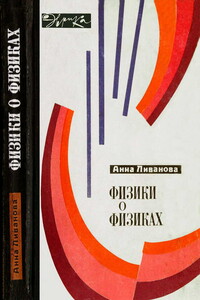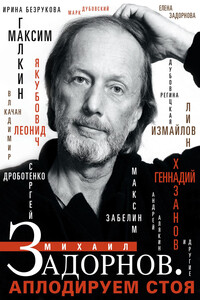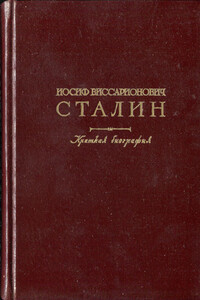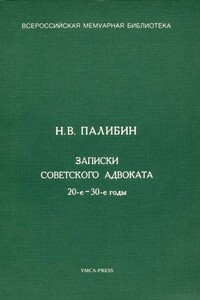Мамин-Сибиряк | страница 52
Е. В. Бирюков после смерти писателя свидетельствовал: «В продолжение всего семинарского курса он постоянно шел в числе первых учеников, поведения был всегда отличного (не начальство, а однокашник оценивал. — Н. С.), обладал недюжинными способностями, феноменальной памятью, завидным прилежанием…»
П. Н. Серебренников, который вместе с Маминым снимал комнату и близко наблюдавший его, впоследствии ставший хорошим врачом и общественником, авторитетно и веско свидетельствовал: «…Семидесятые годы прошлого столетия являются самым цветущим периодом в истории пермской семинарии…
…Я думаю, что основы умственного и нравственного миросозерцания его, то есть Мамина, были заложены еще здесь, в семинарии, благодаря тем довольно благоприятным условиям, которые характеризуют эти годы».
Наконец, весьма красноречива оценка самого писателя, данная им семинарским годам уже на склоне лет. Он, по словам Ф. Ф. Фидлера, говорил: «В семинарии я получил прекрасное образование. Очень хорошо преподавались философия, удовлетворительно — математика и древние языки и совсем плохо — новые».
Пермской семинарии посчастливилось: она имела немало прекрасных педагогов. В шестидесятые годы (люди и движения тех лет для Дмитрия Наркисовича на всю жизнь останутся незабвенными и святыми) таковыми были А. Н. Моригеровский, А. Г. Воскресенский, А. И. Иконников. В маминскую пору особенно выделялись, как личности и превосходные знатоки предмета, преподаватель математики Николай Павлович Бакланов и словесник Иван Ефимович Соколов.
В третьем классе, когда увлечение естествознанием было повальным, Дмитрий очень плотно занялся химией. Вместе с новым своим товарищем Иваном Пономаревым (впоследствии тот стал богатым человеком и на свои деньги издал первую книгу Дмитрия Наркисовича) они штудировали учебники и книги, которые им доставал Бакланов. Особенно внимательно «Книгу природы» Шодлера, в которой давались описания различных химических опытов. Добывали кислород для самодельной горелки, в фарфоровых плошках что-то смешивали и получали порох, которым хоть патроны набивай. Квартира, ими занятая, вся пропахла серным дымом, полы были прожжены кислотами, и не раз возникала опасность пожара. Наверное, хозяин дома, где трудились химики, был необоримо любознателен и за удовольствия редкостных зрелищ все прощал.
В Пермской семинарии со всей серьезностью относились к классным сочинениям. Историк Н. Н. Новиков в своих записках особо отметил: «Вместе с классным обучением преподаватели семинарии упражняли учеников в сочинениях, которые тщательно прочитывались наставниками, обстоятельно разбирались и затем сдавались ученикам. Лучшие и худшие сочинения наставниками представлялись ректору. Число сочинений было велико: всех сочинений написано в течение 1868–1869 учебного года учениками высшего отделения 13, учениками среднего отделения 15, низшего даже 22». Он же далее пишет: «Чтобы упорядочить ученическое чтение, правление семинарии постановило обязать всех воспитанников семинарии завести тетради, в которых воспитанники должны были сделать в виде отчетов краткий обзор прочитанных ими по рекомендации наставников книг. Эти тетради ежемесячно представлялись для просмотра и замечаний наставникам и после каждого полугодия — ректору». Тут, конечно, не обошлось без контроля за направлением мыслей воспитанников, но главным все же была забота о литературной грамотности учеников, о развитии у них гуманитарного интереса, об умении владеть богатствами родного языка.