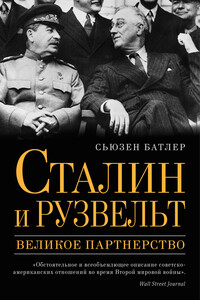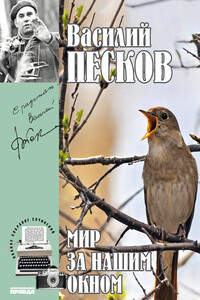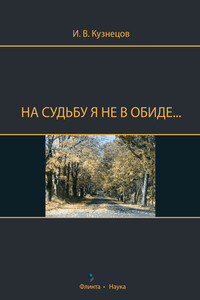Мамин-Сибиряк | страница 31
Через четыре десятка лет в расцвете писательской знаменитости повстречал на отдыхе в Ялте Дмитрий Наркисович тамбовских мужиков, приехавших артелью строить мост через Черное море в Царь-град — ходили такие слухи по нищающим на тучных черноземах тамбовским деревням. Запомнилась эта встреча надолго. Коренной, исконный хлебопашец вдруг оказался совсем не у дел среди беззаботных вороватых челкашей. И спасала заброшенных на юг людей святая вера в постройку всенужнейшего моста. Воровать, ввязываться во всякие босяцкие авантюры им было совестно.
Об этой драме отторгнутых от земли крестьян, которых не спасла бы даже самая реальная трансмагистраль, Мамин-Сибиряк почти немедленно написал очерк «Перекати-поле» и напечатал его в журнале «Русское богатство» (1907 г.).
…Аятская идиллия, хорошее гостеванье у огуречников были подпорчены тягостным впечатлением от «детского мора», павшего на окрестные села и Аятское. Дизентерия выкашивала младенцев, страшно поддерживая некий людской баланс. Митю удивило равнодушие взрослых, без слез оттаскивающих под мышкой детские гробики: Бог дал, Бог взял.
— Ангелочками все будут, — объяснила Мите хозяйка дома.
От Аятского еще семьдесят пять верст протащились за двое суток без приключений.
И вот вновь для Мити Мамина открылся Екатеринбург.
Въезжали через заставу при солнечном дне. Два высоких колонных столба венчались золочеными орлами империи. Солдат, утративший бравость из-за преклонности лет, скорее для порядка, сунул седые усы в документы и разрешающе махнул рукой. Миновали слева городскую комендатуру, где еще раз проверяли документы, и въехали на прямую широкую улицу с виднеющейся вдали громадой кафедрального собора. На зданиях, правильно расчерченных улицах, устланных в центре тротуарами, на прямо и непреклонно стоящих тумбах (вот уж чего не было в Висиме) — на всем была печать некоей военной щеголеватости. Далее лес, тесно обнимающий город, был вычищен до последнего сучка и словно подметен (обыватель из бедных этим промыслом добывал себе топливо). Такая ухоженность Митю поразила: он привык к своему лесу, диковатому, темному, с завалами валежника и вечной таинственностью.
Митя еще не ведал, что сей славный град во многом составит его судьбу. Здесь он будет жить взрослым, будет любим, отсюда в далекие столицы отправятся штурмовать журнальные твердыни его первые выстраданные рукописи, увлекающие не зрелой мощью, а еще обаянием просыпающейся молодой силы и строгих литературных «генералов», и российскую читающую публику. А через двадцать два года для календаря-справочника он напишет исторический очерк «Город Екатеринбург», удивляющий и поныне исследовательской капитальностью и дотошностью автора. В нем Мамин-Сибиряк воздаст должное основателям города — их государственной мудрости, заботе о могуществе отечества, трудолюбию, самопожертвенности. Это будут тысячи людей, приехавших на новое место по разным обстоятельствам, но оседлый инстинкт русского человека возьмет свое — и не будет для них на свете дороже этого уголка.