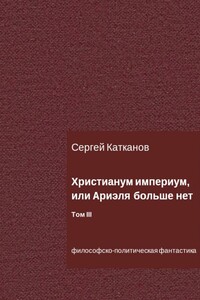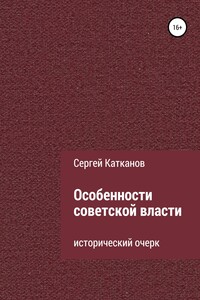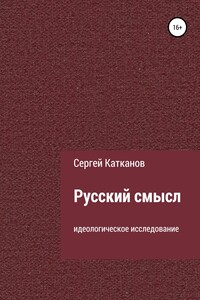На пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения | страница 106
Речь идет вовсе не об уровне мастерства, а о том, что не бывает такого уровня мастерства, которого в данном случае оказалось бы достаточно. Иные лики Леонардо столь же кощунственны, как и мазня провинциальных художников. Иконописный канон избавлял изографов от этой проблемы. Настоящий изограф ни когда не дерзал показать Христа или Пресвятую Богородицу, он символически их изображал, он давал православным знак, а не картину. А это возможно и без большого таланта, и без личной святости, тут не обязательно быть Андреем Рублевым, достаточно быть церковным человеком и понимать, что перед твоим образом люди будут молиться, и твоя задача помочь им в этом. Если изограф имеет личный опыт молитвы и хотя бы средние художественные навыки, он сделает то, что надо. Вершин не достигнет, но этого с него и не спрашивают, храм – не галерея.
Как все-таки замечательно, что сейчас в вологодских храмах начинают появляться современные иконы, написанные по древнему византийскому канону. Они разного уровня, но это воистину настоящие иконы. Перед ними чувствуешь себя в мире молитвы, в мире православия. И как скребет по душе, как оскорбляет религиозное чувство безбожная мазня XVIII – XIX веков, которой до сих пор полно в наших храмах. Ну уберите же это наконец.
Символичная история
Что такое обновленческие тенденции в Церкви, стремление сделать православие более современным? Все они в конечном итоге сводятся к попытке примешать к нашей вере чуточку безбожия. Не правда ли, если добавить к православию немного атеизма, оно будет выглядеть куда более респектабельно. Надо же шагать в ногу со временем.
Но мы, дремучие ортодоксы и фундаменталисты, тупо пытаемся шагать в ногу с вечностью. Мы понимаем, что дух времени это дух безбожия. И мы не хотим украшать православие плодами расцерковленного сознания. В Церкви нет и не может быть ни чего не церковного. Но в наших храмах мы с величайшей горечью порою не только видим, но и слышым нечто совершенно не церковное.
Как порою выделываются и выдрючиваются наши певчие на клиросе – это же просто уму непостижимо. Веке в XIX многие весьма далекие от Церкви композиторы написали музыку для православной литургии. Людей не церковных вообще постоянно мучает странный зуд – желание что-то в Церкви улучшить. Они неспособны понять, что такое литургия, да и не хотят они это понимать, но они уверены, что музыка литургии могла бы быть и получше, посовременнее. Как-то купил на виниловом еще диске литургию Иоанна Златоуста на музыку композитора Грекова. Это нечто чудовищное. Резкие повышения тона, дикие выкрики не вызывают ни чего, кроме желания вызвать милицию. Под это принципиально невозможно молиться. А Грекову-то что? Он и не пытался.