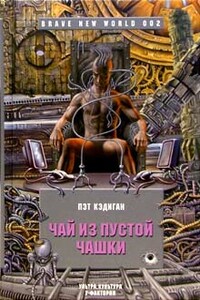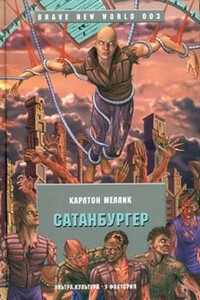История одного супружества | страница 44
Я не знала, что думать об Этель Розенберг, еврейской жене, приговоренной за то, что помогала мужу передать Советскому Союзу ядерную тайну. На зернистых снимках из зала суда ее лицо казалось твердым, как у фарфоровой куклы, а тело – окоченевшим от гнева. Она была в старомодной шляпке и бедном суконном пальто. Ее заставили принять на себя позор за все дело Розенбергов – даже брат свидетельствовал в суде против нее, – а когда ее наконец приговорили к смерти, родня отказалась брать к себе детей. Они отправились в приют. Согласно тогдашнему общему мнению, Этель виновата тем, что все это допустила. Неблагодарная еврейка предала страну, освободившую ее народ, осиротила своих детей, покрыла позором честную фамилию – все потому, что не посмела перечить мужу-безумцу. Даже моя соседка Эдит чувствовала себя опозоренной.
Теперь отперты все тайные шкафчики, обнародованы пожелтевшие правительственные документы, прозвучало признание ее теперь уже покойного брата, и мы знаем правду: Этель Розенберг, урожденная Этель Грингласс, не была шпионкой. Но это ничего не меняет, потому что шпионкой ее никто не называл. Ее приговорили к смерти, как выразился судья, за то, что она не «удержала» своего мужа. Своего красавца Юлиуса, преданного революции. Судья сказал, что ее молчание – не действия, а молчание! – изменило ход истории, что еврейская жена с вялым подбородком и красивым певческим голосом спровоцировала войну в Корее, подъем коммунизма, гибель многих наших солдат и, возможно, конец света. Нерадивые жены приблизят нашу кончину. Так что ей пришлось умереть.
«Обними меня, – писала Этель мужу в Синг-Синге, – мое сердце отяжелело от тоски по тебе». Каким таким заколдованным кругом он очертил ее, заставив молчать? Читая их страстные письма, представляя, как она пела ему «Гуднайт, Айрин» через стенку камеры, и глядя на фото, где они целуются, я пыталась посочувствовать ей. Хорошей жене. Плохой американке. Плохой матери. На полицейском снимке она выглядела будто из прошлого века: блузка, камея, волосы непослушные и растрепанные – иммигрантка, только что прибывшая из пылающей страны, смотрит мимо камеры, словно проникла взглядом сквозь стену и видит стул, который ее ждет. Сжатые губы демонстрируют какой-то нездоровый накал страсти, которая стоила и ее жизни, и жизни сыновей, и всех наших жизней. И молчит, продолжает молчать, хотя это уже давно никому не поможет. За кого она сражалась? За любимого Юлиуса? За себя?