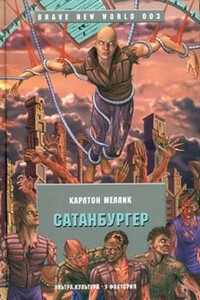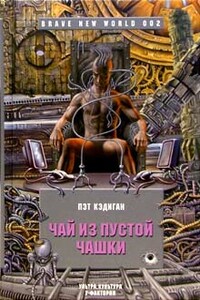История одного супружества | страница 33
– Выбрасываю ее.
– Но я собирался ее отправить.
Она стояла в коридоре, вытирая руки о цветастое домашнее платье. Она была вдовой фермера и привыкла защищать то, что мир пытался отобрать у нее.
– Ее нельзя отправлять.
– Я отправлю.
– Я уже сказала соседям, что ты уехал в понедельник. Не поднимай штору и не сходи вниз, слышишь? Я уже все решила.
Не говоря больше ни слова, она спустилась вниз, а он остался в спальне, без света, если не считать луча, падавшего сквозь дыру в шторе и освещавшего пыльную колоду карт. Холланд стоял и смотрел на штору. А потом закрыл дверь.
Как ты выжил? Твой мир сжался до каюты моряка: лишенная солнца спальня, ночной горшок и три фута коридора, которые не было видно из окна. Тебе запрещалось выходить на улицу, стоять у окна, петь, бросать мяч об стенку – иными словами, запрещалось быть мальчиком. Ты был монахом, окруженным тишиной и книгами, которые приносила я, ты был изолирован от опасностей внешнего мира. Как ты не сломался, зная, что стоит соседу тебя увидеть, и к вечеру сюда явится весь город, тебя вымажут желтой краской и будут стучать в кастрюли в ярости на уклониста, трусливого афроамериканца? Знаю, ты изучил каждое сражение этой войны, каждый корабль с темнокожими солдатами на борту, отправленный через океан и разлетевшийся в мелкие щепки. Ты следил за цифрами потерь, как другие мальчишки следят за бейсбольной статистикой, – я знала, это для того, чтобы прикоснуться к настоящему миру, дать ему себя ранить, почувствовать себя живым. Ты жил в зазеркалье, в дупле дерева, в мире без смерти, созданном для тебя женщинами.
Я навещала его в тюрьме, оклеенной газетными вырезками. Приходила несколько раз в неделю с нотной тетрадью в руке. Его мать садилась внизу, одна, и играла на дрянном пианино – предполагалось, что я беру уроки музыки. Играла всегда одно и то же: «Где или когда». А я поднималась наверх, к ее сыну. Всегда приносила книги, спрятанные в нотной тетради, – кажется, я перебрала всю библиотеку. И мы читали вместе, в тишине или перешептываясь, пока не приходила пора мне возвращаться в странный солнечный мир, которого он не видел.
Я помню каждый угол твоей комнаты. Конечно, я ведь была влюблена. Лассо, висевшее у окна, словно змея. Твою железную кровать, крашенную в гигиеничный белый цвет, провисшую, как тюремная койка. Не отбрасывающую тени статуэтку – индейца на коне. Твою куртку с медными заклепками, которую я одалживала холодными вечерами. Еще я помню твое лицо в тусклом свете, улыбку, расцветавшую, когда я приходила. Твой молчаливый силуэт у закрытой шторы: широкоплечий, с тощими ногами и отросшими волосами. Как ты одними губами говорил: «Привет» – и жестом приглашал сесть рядом. Я вверила твою комнату памяти. Сказала себе: мол, это для того, чтобы в пасмурные дни можно было ориентироваться в душной темноте, как в игре в жмурки. На самом деле – для того, чтобы потом, лежа в своей кровати, можно было закрыть глаза и представить, что я рядом с тобой в этой тихой лисьей норе, ставшей твоим миром. Я любила тебя без памяти.