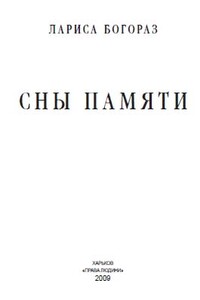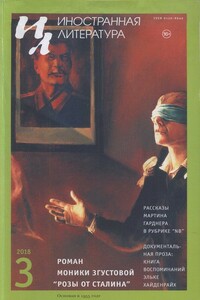Нравственное сопротивление | страница 7
По возвращении из ссылки в Москву ее, кандидата филологических наук, не брали ни на какую работу, даже ночной няней в детсад. Устроилась лифтером, зарабатывала себе стаж и пенсию, получая сущие гроши.
Я спросила, было ли ей страшно?
Ведь с ними, правозащитниками, боролись от имени "державы", народа, "во благо" и "во спасение", - как на войне, всеми средствами, и в любой момент могло случиться все, что угодно.
"Нет, не было страха, - ответила она. - Может быть, потому, что среди нас находилось много здравых людей, которые были в состоянии оценить степень риска, поступки, совершаемые нами, не были самоубийственными. Не стоит преувеличивать смелость нашего поведения. Тем более не стоит тем, что кажется смелостью, измерять и оценивать поступок каждого из нас в отдельности. Кто-то рисковал по обстоятельствам своей жизни больше, кто-то меньше. Но не в этом дело. Мы понимали: за свободу, за то, чтоб чувствовать себя свободными людьми, надо платить.
А сегодня я боюсь поиска новых героев. Потому, что путь этот уже пройден. С семнадцатого года начиная. Тогда одних идолов свергали с пьедестала, других водружали на пьедестал. А сейчас, похоже, началось по-новой: этот человек - командир, он нам сейчас все скажет. Но убеждать можно логикой, а не личностью.
Вот появляется статья о нашей демонстрации шестьдесят восьмого года под заголовком "Можешь выйти на площадь?". Господи, но ни я, ни мои друзья никогда не призывали кого бы то ни было выходить с нами на площадь.
Именем моего покойного мужа Анатолия Марченко сегодня как бы клянутся. Он написал книгу "Живи как все". Он хотел жить по-своему. Появляется статья под названием "Живи, как Марченко".
Каким-то непонятным образом (а может, как раз понятным?) новое поколение усвоило мифологический тип сознания.
А я и мои друзья положили жизнь на то, чтобы добывать истину самим. Жить иначе - значит освобождать себя от ответственности".
Но почему же сегодня в нашей непростой и бурной жизни в парламенте и на митингах, средь новых вождей и политических деятелей, мы видим чрезвычайно мало правозащитников? Почему люди, благодаря которым родились новые возможности для развития человека и общества, оказались как бы не у дел?
У нас не было конструктивной программы. Мы настолько не надеялись на успех (знаете, даже тост провозглашали: "За успех нашего безнадежного дела"), что совершенно не готовились к тому, что станем делать, когда наши идеи победят в обществе. Результат в итоге грустный. На месте правозащитного движения - такая безответственная организация, как "Демократический союз".