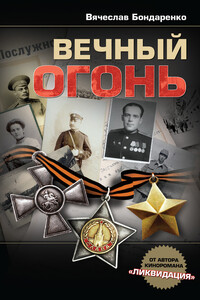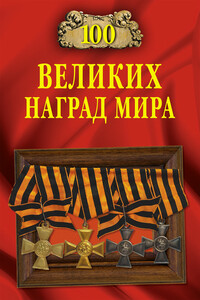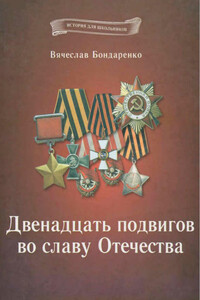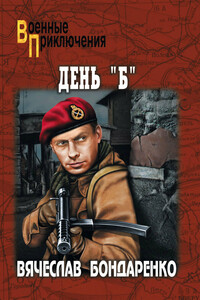Святые старцы | страница 7
В то время эта обитель находилась в упадке. После того как в 1764 году указом Екатерины II она была исключена из состава Знаменского монастыря, пустынь начала беднеть, в ней оставалось всего двенадцать монахов, а нравы оставляли желать лучшего. Это не устроило новоприбывшего, и Владимир на протяжении десяти лет странствовал по разным обителям, ежегодно возвращаясь при этом домой, чтобы продлить выдаваемые матерью документы.
На нынешний взгляд такое поведение монаха выглядит довольно странным, но для конца XVIII столетия оно было скорее обыденным. Корни такого положения дел уходили еще в Петровскую эпоху, когда в России началась настоящая борьба с монашеством. В 1703 году было запрещено строить новые обители, в 1723-м в существующих монастырях запретили новые постриги, а на места, освободившиеся после смерти иноков, приказали определять отставных солдат-инвалидов, нищих и тяжелобольных. По мысли Петра I, монастыри должны были превратиться в подобие богаделен, а монашество постепенно преобразоваться в подвид государственного крестьянства. Девять лет спустя, уже при Анне Иоанновне, запрет на постриги был подтвержден, исключения делались только для овдовевших священников и бывших солдат. Политика секуляризации, которую проводила в начале своего правления Екатерина II, тоже дала свои невеселые плоды – множество малых монастырей было упразднено или в лучшем случае выведено «за штат», то есть лишено государственной поддержки. Они могли рассчитывать разве что на помощь пожертвователей. Атмосфера в таких умирающих провинциальных обителях царила нервная, нередки были случаи клеветы и доносов братии друг на друга. В монашеской среде распространились всевозможные пороки, на территорию мужских обителей свободно допускались женщины, монахи посещали келии друг друга или надолго покидали территорию монастыря, собирая пожертвования. Таким образом, переходы Владимира Кишкина из одной обители в другую были вполне «в духе времени». Памятуя о том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, благочестивый, сдержанный юноша понимал, что в атмосфере распущенности и мирской суеты заниматься духовным совершенствованием будет сложно – и отправлялся дальше…
Так продолжалось до осени 1782 года. Тогда Домникея Николаевна Кишкина скончалась, на смертном одре уже окончательно и без всяких условий благословив сына на путь монашеского делания.
Уже во второй раз в жизни Владимира Кишкина возник Миропольский Белогорский Николаевский монастырь. 7 марта 1783 года игумен Константин (Саурский) постриг новоприбывшего в мантию с именем Василий. Монашеское имя Владимир получил в память погибшего в монгольском плену святого праведного князя Василия Ростовского, память которого Церковь отмечает 4 марта.