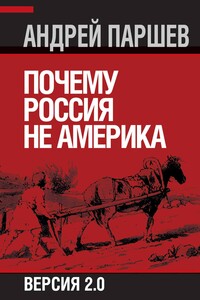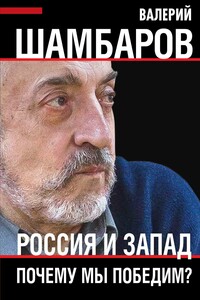Русский октябрь. Что такое национал-большевизм | страница 46
Первая революция конкретно обнаружила опасность. Под покровом дряхлеющей власти шевельнулся хаос, мелькнул смутный облик бездны. И уже тогда, после первых революционных опытов, наиболее чуткие из тех, кто были властителями дум своего поколения русской интеллигенции, стали сознавать тупик, к которому она пришла. Уже тогда ее авангард суровой критике подверг ее прошлое, решительно осудил ее традиционный путь, ее «большую дорогу», сжег многое, чему поклонялся, поклонился многому, что сжигал. Конечно, тут прежде всего надлежит сослаться на знаменитые и пророческие «Вехи», появившиеся в 1909 году.
Но то был лишь авангард. Его осмеяли, его, разумеется, заподозрили в «реакционности», его немедленно отлучили от интеллигентской церкви, а вся армия, вся масса интеллигентская осталась при прежних своих верованиях, столь красочно разоблаченных одиозным сборником.
Поверхностный, банальный и устаревший позитивизм в качестве основы «общего миросозерцания», наивная религия прогресса в духе Конта и Фейербаха, кичащаяся маркой квалифицированной «научности», некритический утилитаризм в этике («человек произошел от обезьяны, а потому… люби ближнего своего») и, как социально-политическое завершение, непременно – социализм, коммунизм в роли рая на земле… И в этот комплекс ограниченных, сумбурных идей вкладывали великий идеализм упований, жертвенные порывы веры и любви.
Поколениями воспитанные в ненависти к власти, мы приучались отождествлять правительство с государством и родиной. Все духовные ценности – религию, мораль, искусство – мы привыкли расценивать по их внешним «проэкциям», по их «общественно-политическим» выводам. Нет ничего удивительного, что от такой расценки мы перестали воспринимать и ценить все действительно ценное, все, что не поддается плоскостному измерению. Само собою разумеется, что понятие «национального лица», как ускользавшее от такого измерения, было объявлено «мистической выдумкой», а принцип национальной культуры провозглашен «реакционным» и «шовинистическим». Самый термин «национализм» стал у нас бранным словом. За роскошью факта великодержавия притупился в стране великодержавный инстинкт. «Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и нашу ответственность за нее» (П.Струве. «Размышления о русской революции»). В конце концов мы превращались в каких-то Иванов-непомнящих, людей без отечества, оторвавшихся от родной почвы. «Высокие идеалы», нас питавшие, придавали лишь отвлеченную моральную высоту нашим настроениям и поступкам, но не способствовали их действенной плодотворности и не животворили их творческим духом. Государственность при таких условиях постепенно превращалась в оболочку, лишенную жизненных корней и связей. Государственность вырождалась, превращаясь в омертвевшую шелуху.