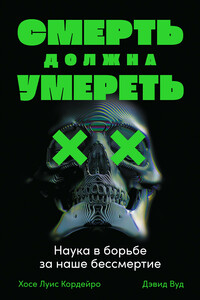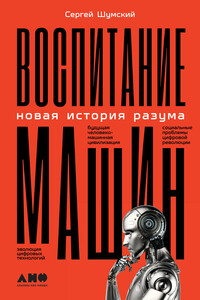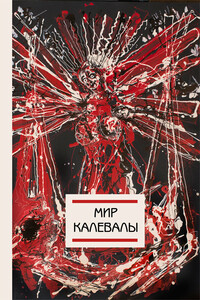Из истории идей | страница 2
Никогда раньше этого не было, и напрасно стали бы мы искать аналогий эпохи XVII-XX столетий в прошлом человечества. Недаром это и сознается сейчас, когда на наших глазах все ярче и сильнее выступает мировая история, охватившая, как единое целое, весь земной шар, совершенно покончившая с уединенными, мало зависимыми друг от друга культурными историческими областями прошлого.
Несомненно, корни научного знания теряются в бесконечной дали веков былого. Мы сталкиваемся с ними в первых проблесках религиозного сознания, коллективного художественного творчества или в начатках техники, а их следы мы находим в самых древних остатках человечества, в самых первобытных и диких укладах человеческого общежития.
Но эти первые проблески религиозного вдохновения, технических навыков или народной мудрости не составляют науки, как первые проявления счета или измерения не составляют еще математики. Они дали лишь почву, на которой могли развиться эти создания человеческой личности. И для этого мысль человека должна была выбиться из рамок, созданных вековой, бессознательной коллективной работой поколений, - работой безличной, приноровленной к среднему уровню и пониманию. Зарождение научной мысли было формой протеста против обычной народной мудрости или учений религии. По-видимому, это совершилось за шесть столетий до н. э. в культурных городских общинах Малой Азии.
Но эти первые шаги научного творчества были слабы и ничтожны. Едва ли они могли быть заметны в окружающей жизни, шедшей своим бессознательным укладом, не дававшим места новому созданию человеческой личности. Реальной исторической силой, меняющей жизнь данного времени, они не были.
Прошло много столетий, прежде чем эти первые зачатки научного мышления могли в свою очередь явиться силой в жизни человечества, более мощной или равной другим, творящим его историю, факторам. Еще в XVI столетии мог быть спор, нужны или нет в жизни те естественнонаучные и математические знания, которые в это время были в распоряжении человечества; еще в эту эпоху практика мастерских, рудников, военного, даже морского дела безнаказанно обходились без тех данных, которые даются наукой. В это время во многом долголетняя выучка практического деятеля давала ему больше знания, чем то, что мог ему дать накопленный в книгах или в преподавании научный опыт, научное обобщение. Все это изменилось в XVII столетии; здесь мы видим ясный перелом, когда научное знание стало опережать технику, когда полученные с его помощью приложения к жизни стали оставлять позади себя коллективные создания технических традиций и навыков. В эту эпоху научное представление об окружающем мире стало в резкое противоречие с вековыми созданиями религиозных, философских или обыденных представлений о мире, и вместе с тем оно смогло доказать на деле значение своих положений, ибо оно дало, несовместимые со старыми представлениями, неожиданные для него применения в мореходном и военном деле, технике, медицине. В то же время новая математика впервые открыла перед человечеством новые горизонты познаваемого и приемы исчисления, несравнимые и оставившие далеко позади за собой те начатки геометрии, которые преподавались в школах или передавались в мастерских, те формы арифметики, которые перешли школьным путем от прежних времен или создавались в торговых и банкирских конторах. Эти создания тысячелетий были детским лепетом перед тем, что в XVII в. в форме новой математики стало открываться перед человечеством.