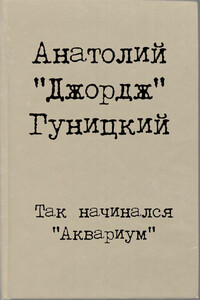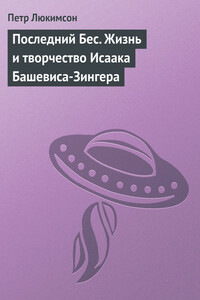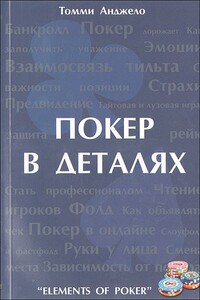Константин Райкин и Театр «Сатирикон» | страница 23
Наиболее знамениты три гротескных образа, в которых античность соединила черты человека и зверя: сатир, кентавр и Минотавр. Я перечислил их в порядке увеличения размеров (Минотавр – самый большой) и в порядке от смешного – к страшному: сатиры смешны, кентавры внушают опасение, а Минотавр прямо воплощает древний звериный ужас. Вообще способности всех троих многократно превосходят человеческие; природа их непостижима для людей и потому кажется опасной и страшной.
С другой стороны, сатиров и кентавров почитали в древности как носителей исконной божественной мудрости. Они жили еще в «золотом веке» рядом с богами, когда на земле не было войн и нужды. Именно сатиры и кентавры научили людей музыке, потому что это древнейшее из искусств досталось нам прямо из «золотого века». Поэтому сатиры и «поселились» в европейской пасторали – театральном жанре, в котором по традиции вспоминают о древней блаженной земле, похожей на Эдемский сад – «блаженной Аркадии», откуда происходит большинство причудливых существ смешанной природы.
В то же время сатиры, кентавры и Минотавр – старинные европейские символы гротеска (гротеск – прием соединения несоединимого) и смешанных театральных жанров – трагикомедии и трагифарса, главных жанров современности. Великий человек театра, испанец Лопе де Вега, в 1607 году написал об этом так:
Смешение трагичного с забавным —
Что говорить, подобно Минотавру.
Но смесь возвышенного и смешного
Толпу своим разнообразьем тешит.
Ведь и природа тем для нас прекрасна,
Что крайности являет ежечасно>[3].
Если продолжить ассоциации через исторические эпохи, следует сюда прибавить и особенное увлечение людей искусства XX века образами Сатира и Минотавра. Один из выразительных примеров – знаменитый европейский художественный журнал 1930-х годов под названием «Минотавр», обложки к которому (с изображением зверя) рисовали Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Диего Ривера, и еще во многом, многом другом.
Так что слово «сатирикон» при самом беглом рассмотрении сразу увлекает к основаниям европейской театральной культуры и вводит в круг художественных идей, которые мы сегодня уже без сомнений относим к театру «Сатирикон». Это трагикомедия, трагифарс, гротеск, маска, взвинченная энергия, быстрота, танец, смех, готовность открыть страшное в смешном и смешное в страшном – и надо всем этим праздничность театра и торжество актерской природы…
Философы назвали интуицию «высшей формой познания». Доказательства этому утверждению человечество ищет и продолжает искать на протяжении всей своей истории. Но в недавней истории театра есть непреложный факт: интуиция отца и сына Райкиных, побудившая их в апреле 1987 года назвать театр «Сатириконом», оказалась пророческой.