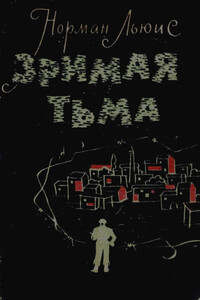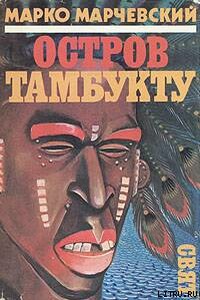В жаре пылающих пихт | страница 26
Глава 4. Хлеб для людоеда
Утром вновь солнце надулось багровой головкой полового члена перед семяизвержением – и, не дожидаясь, когда оно извергнет пламя, они продолжали свой путь в промозглой прохладной тени. Вечер не наступал долго, а когда наступил, то опустился внезапно, как занавес. Где-то в полумиле от них, трепеща в знойном воздухе, цепочкой продвигались существа неведомые, уходя в направлении, противоположном путникам – и очередной рассвет вот-вот должен был настигнуть безмолвный гурт, но стадо будто исчезло во тьме, где стеной вырастал выгоревший с восточной стороны лес облезлых деревьев с бесцветной корой. Звезды, собранные в снопы, букеты и жаровни, горели ярко, и света луны было достаточно, чтобы не останавливаться им до зари. Горбоносый обернулся на крик, когда кареглазого вышвырнула из седла лошадь. Она покачивала из стороны в сторону головой и отталкивалась передними ногами, разворачиваясь и фыркая, будто ее окружало незримое препятствие, сотворенное ее же жарким спутанным дыханием.
И она пятилась от него, раздувая ноздри и тараща глаза, и клацая зубами.
Горбоносый спешился, быстро утихомирил ее, наблюдая, как кареглазый, корчась, поднимается.
Длиннолицый, сложив руки, ссутулился в седле и, понурив голову, жевал табак, приговаривая что-то своим лошадям.
Хорошо хоть не на мою шляпу приземлился, сказал.
Ну, что там? спросил кареглазый.
Горбоносый подошел к нему и задрал его рубаху, изучая кровоподтек.
М-м… до свадьбы заживет. В седло вернешься.
А что остается? Не пешком же идти.
Трус, убийца и рохля, рявкнул Холидей. Даже конь твоя чует твою трусость – отдайте ее мне! Я больше заслужил…
Тихо, рты! прошипел длиннолицый.
Он выпрямился, сплюнул и прищурился, на мгновение застыв полностью, будто от удара молнии, а затем повел лошадей в сторону, откуда хорошо просматривался оставшийся позади путь. От мимолетного чередования повторяющихся пятен, среди стволов низкорослых деревьев, отделилась тень, чье движение нарушало покой этих мест и выглядело посторонним, не принадлежавшим этому многовековому монументу застывшей натуры.
Медведь? волки? спросил кареглазый.
Принюхайся, запахи не обманывают.
Хуже, нехристи! ответил длиннолицый.
Краснокожий сидел на вьючном муле – мул был уже старый, но ретивый; краснокожий же еще мальчишка, с хвостом длинных черно-синих волос в разукрашенном капюшоне с колпаком, который делал его похожим на палача. Одет в перепоясанный мешковатый капот с передним разрезом, застегивающимся на пуговицы, но теперь расстегнутом для верховой езды. Жилистые безволосые голени и босые ступни, меленькие, как у женщины. Сам мальчишка тощий, с узким лицом и римским носом, кожей черной и черной кровью, как у шахтера. Под серыми ногтями фиолетовые дужки грязи, а единственное белое, что у него было – это белки обезвоженных соколиных глаз, сверкавшие в полутьме, которыми индеец разглядывал необычных иноземцев, чужестранцев, статуй из иной глины.