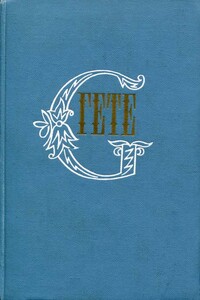Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова | страница 22
О дисгармонии, вызванной нарушенным механизмом взаимоотношений человека и красоты, по-своему говорит и Исао из «Несущих коней». Для него эстетическим идеалом является образ императора, но если воспринимать в его словах императора как красоту, то становится понятно, что речь в принципе идет об одном и том же:
«Там сияет солнце. Отсюда его не видно, но этот серый свет вокруг нас идет от солнца, поэтому оно должно блистать на небе. Солнце — вот истинное воплощение императора, под его лучами ликует народ, тучнеет заброшенная земля, оно необходимо, чтобы вернуться к благословенному прошлому»[78].
Говоря об эстетической системе Мисимы, необходимо сказать о таких тенденциях его творчества, как попытка сблизить эстетику с этикой и энтропия.
В творчестве Мисимы этике с самого начала была отведена довольно пассивная роль; мораль, попросту говоря, вообще не присутствовала там, где дело касалось красоты. Если вспомнить о подавляющем характере красоты, властвующей над всеми и всем в этом мире и неподвластной в свою очередь никому и ничему, становится понятно, что красота устанавливала законы для всего сущего, сама была законом (или, скорее, «тайной беззакония»). Как говорит Сюнсукэ в «Запретных цветах», «красота была вырвана из рук этики». Можно даже сказать, что эстетика Мисимы была антиэтична, потому что для красоты не существовало ни социально-общественных (люди полностью подчинялись красоте), ни этико-религиозных законов.
Отношения эстетики Мисимы с религией вообще заслуживают отдельного разговора. Так, синтоизм, индуизм и различные учения буддийского толка подвергаются у него довольно странным трактовкам; они нужны ему не столько сами по себе, сколько для обоснования собственных эстетических построений (в тетралогии многие религиозные идеи, в частности учение «юисики» буддийской школы Хоссо, а также различные явления мировой культуры привлекаются для оправдания идеи реинкарнации). Что же касается различных буддийских школ и дзэнского буддизма, то в «Золотом Храме», самом «буддийском» по содержанию романе Мисимы, мы видим возникающую в результате очень самобытных и подчас просто извращенных трактовок героев буквальную антитезу дзэну, своеобразный антидзэн. Различные дзэнские традиции и идеи профанируются в романе; главной же «несостыковкой» является то, что в дзэнском смысле пустота — это идеал, залог умиротворения, гармония, в романе же пустота становится отрицательной характеристикой красоты, пугает и внушает героям ужас.