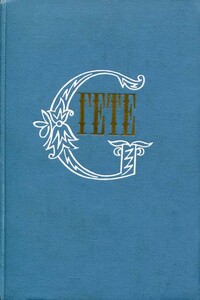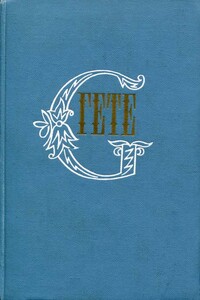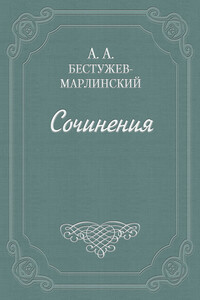Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова | страница 17
«С этих пор (с момента ухудшения состояния мужа. — А. Ч.) для Эцуко начались счастливые дни — всего шестнадцать коротких дней, зато все счастливые… О, как они были похожи — эти счастливые дни — на их свадебное путешествие! Только теперь Эцуко отправилась с мужем в страну под названием Смерть. Это путешествие изматывало душу и тело — как свадебное. Оно сопровождалось страданием и страстью — не было ни пресыщения, ни усталости. Рёсукэ, словно молодая невеста, распластан на постели; его грудь обнажена; тело умело подыгрывает Смерти, в лихорадке отдаваясь кошмарным видениям»[60].
Кроме подобной самостоятельной идеализации смерти и временами ассоциирования, уравнивания ее с прекрасным, прекрасное и смерть как эстетические понятия и агенты вступают в своеобразные и подчас довольно сложные отношения: «Изменилось отношение к смерти; предельная близость к ней лишена того настроения, истолковать которое можно еще как некую торжественность»[61]. Так, во-первых, присутствует стремление к утрате личного начала, «индивидуального», стремление к исчезновению личности ради ее растворения в абсолютной трансцендентной красоте. Во-вторых, параллельно идет и в чем-то противоположный процесс, который можно было бы обозначить как стремление к освобождению от власти чужеродного по отношению к человеческой личности, чем является та же трансцендентная не только человеческой природе, но и вообще тварному миру красота.
В ситуации желания героев раствориться в прекрасном Мисима моделирует ситуацию самоубийства, когда с помощью красивой, предельно эстетизированной смерти сэппуку происходит активное приближение к миру прекрасного. Под сэппуку Мисима понимает творческую реализацию человеком потенции, исходящей от мира прекрасного как своеобразный вызов, воплощение этой потенции в эмпирической действительности («И только смерть является возвращением, первым и последним достижением собственной сущности»[62]). Сэппуку — это действенное, оперативное и непосредственное воплощение красоты, доступное человеку в этом мире и одновременно выводящее его за пределы этого мира. Благодаря ему человек может реализовать то имплицитно наличествующее в нем качество, которое католический богослов К. Ранер именовал «сверхъестественным экзистенциалом» человека[63]. Так как задачей человека Мисима усматривает не простое созерцание эстетического, а приближение к нему, то, соответственно, поведение человека не должно оставаться пассивным почитанием красоты — оно должно стать активным действием, действием человека во имя «пересоздания» себя из телесного, материального в духовное, в приобщенное к миру прекрасного, «атакой» красоты. И именно здесь в