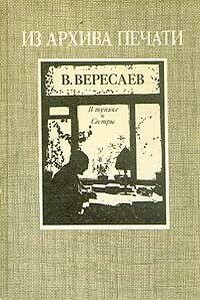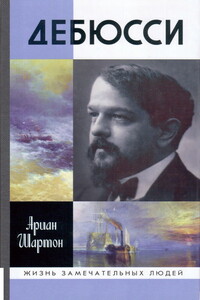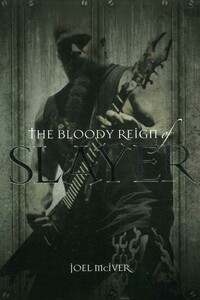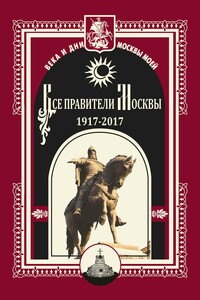Да здравствует весь мир! (О Льве Толстом) | страница 111
И в неотвратимой неизбежности этих мук человек находит, наконец, своеобразный выход: броситься навстречу мукам, целиком отдаться им, растереть душу смертными противоречиями. В этом - сладко пронзающее душу сладострастие, грозная радость, темная, как кровь. Человеку открывается красота и счастье страдания, он начинает любить скорбь и жаждать мучения. И через скорбь он познает основную истину жизни - истину о высшем, трагическом призвании человека. Как победное знамя, высоко возносит свою истину обезумевший от страданий человек и с дергающеюся улыбкою насмешки и презрения смотрит вдаль: там видится ему что-то серенькое, пошленькое и убого-самодовольное, что зовется гармонией, счастьем и что пригодно только "aux animaux domestigues".
Не там обетованная земля человечества, не в этой серенькой дали. "Царство божие внутри нас". Только еще усилить страдания, еще больше раскачать душевный хаос - горячкою, эпилептическою аурою, безмерностью мук и темная пустота вдруг вспыхнет ослепляющим светом. Человек отвержется себя, расторгнет давящие грани своей личности и в вихре экстаза опрокинется в радостно сверкающий молниями хаос, принимая его за сияющий космос, за "высшую гармонию". И вот совершается чудо. Мир преобразился. Нет разъединения, нет мрака, нет ужасов, нет неподвижности. Все живет кипуче и радостно, все едино - огромным, стихийным, божественным единством, которого не постичь сознанию, замкнутому в своих гранях. Всей жизни можно сказать: "да, это правда!" Все оправдано одним этим мигом, "длящимся, как вечность". И в человеческом восторге сливается душа с единою первосущностью мира и из глубочайших глубин своих запевает "трагический гимн богу, у которого радость". А для жизни, - для жалкой, темной жизни, - что можно для нее сделать? "Закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три". Это для настоящего. А для будущего: "бедный, видя смирение богатого, поймет и уступит ему".
И против Достоевского - Толстой. Светлый и ясный, как дитя, идет он через жизнь и знать не хочет никакого трагизма. Душа тесно сливается с радостною жизнью мира. Всюду вокруг эта близкая, родная душа, единая жизнь, - в людях, в животных, даже в растениях, - "веселы были растения", даже в самой земле: "земля живет несомненною, живою, теплою жизнью, как и все мы, взятые от земли". Не разумом, не умственным путем познает Толстой это единство, а проникновением другого рода, несравненно более полным и глубоким, чем проникновения разума. И в чудесном этом единении бледнеет, как-то странно теряет свою жгучую важность ряд вопросов, тяжко мучающих душу Достоевского, - вопросов о бессмертии, о боге. Сохранится ли в веках личное сознание человека после смерти, или единая жизнь сознала себя на миг в его жизни, а дальше будет сознавать себя в жизни других? Важно ли это, когда сознано само единство жизни? Важны ли храмы, когда вся жизнь есть один огромный, священный храм? Важно ли понятие "бог", когда в насущном, живом и беспрерывном единении душа молитвенно сливается с целым вселенной?