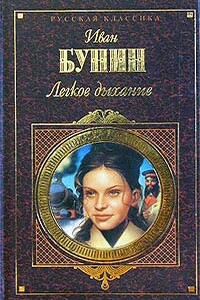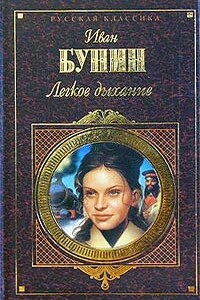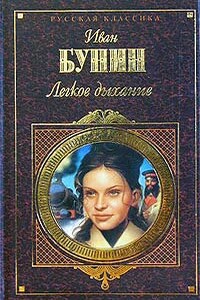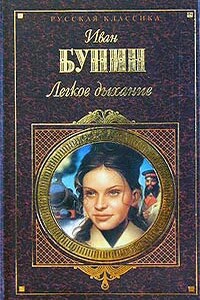Аполлон и Дионис | страница 45
И вполне понятно, почему трагедия питала такую любовь к героическим образам, любовь, обманчиво говорящую о героическом будто бы характере самой трагедии. Бессилие человеческой воли, разумеется, всего удобнее демонстрировать на воле самой лучшей, самой крепкой. Какой это для кого будет ужас, если на сцене жалкая перепелка будет биться в сетке? Пусть могучий лев катается по земле, опутанный сетью, пусть напрягает чудовищные мышцы и потрясает театр яростным ревом. Тогда всякий зритель ясно почувствует всю предательскую силу тонкой, невидной на глаз сети и все ничтожество могучего, кто этой сетью опутан.
Всего более чуждо эллинской трагедии активное, героическое настроение, возвеличение борющейся человеческой воли, - в победе ли ее или в поражении, - все равно. Типичнейший и любимейший герой трагедии страдалец-Эдип.
Но "лучезарному венцу пассивности", лежащему на голове Эдипа, Ницше противопоставляет "венец активности", сияющий на челе эсхиловского Прометея. В "Скованном Прометее" он видит прославление дерзкой, несокрушимой человеческой воли, смело идущей даже против божества. Основную мысль трагедии Ницше выражает в известном обращении к Зевсу Прометея гетевского:
Я здесь сижу, творю людей
По образу и лику моему,
Мне равное по духу племя,
Чтобы ему страдать и плакать,
И ликовать, и наслаждаться,
И на тебя не обращать вниманья,
Как я...
И восторженно отмечает Ницше то "достоинство", которое миф о Прометее придает преступлению в отличие от семитического мифа о грехопадении, где источником зла является любопытство, лживость, похотливость и т. п. "То, что отличает арийское представление, это - возвышенный взгляд на активность греха, как на прометеевскую добродетель по существу", - говорит Ницше.
В полном недоумении останавливаешься перед таким истолкованием эсхиловского Прометея. И даже шевелится вопрос: могло ли в данном случае быть заблуждение Ницше добросовестным? Каким его рисует Ницше, - да, таков Прометей новый, - Прометей Гёте, Байрона, Шелли. Но вовсе не таков Прометей эсхиловский и вообще античный. В начале прошлого века на этот счет можно было еще заблуждаться, например, Шлегелю. Но для Ницше, после классической работы Велькера об эсхиловском "Прометее", это было совершенно непозволительно. Дело в том, что за "Скованным Прометеем" у Эсхила следовал "Прометей освобождаемый". От этой второй трагедии до нас дошли только скудные отрывки, но они говорят с несомненною очевидностью, что трагедия кончалась полным поражением Прометея - не наружным поражением, а поражением внутренним, художественным изобличением неправоты. Прометея. Уже в "Прометее Скованном", как замечает Велькер, ясно предуказан конец, ждущий Прометея. Хор выражает надежду, что Прометею еще удастся освободиться от оков и стать не меньше Зевса. Но Прометей отвечает (511-513):