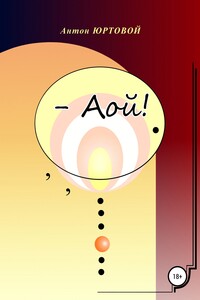Миражи искусства | страница 2
По сравнению с их «свершениями» заслуги подвижников «бури и натиска» представляются намного существенней и более ярко. Чего стоят, скажем, личности Визбора, Высоцкого, Рубцова, Любимова, Окуджавы, Рязанова, Бродского, Говорухина. Таких имён, которые сегодня широко известны и уже приобщены к истории отечественной культуры, наберутся целые плотные списки. Воздать им особую честь было бы в высшей степени справедливо. Однако наше государство к этому совершенно не готово да у него не может появиться и такого желания. Одно дело, что роль интеллигенции ему, как и предыдущему режиму, представляется аморфной и малопонятной. В какой форме признавать её заслуги, если их брать «вообще», а не «от» профессий? Или – не признавать? Другое, – что понадобилось бы раздавать отличия, возможно, буквально каждому, кто принадлежал к той эпохе, что хотя и тяжело для бюджета, но в определённом смысле тоже оправданно. Стоит в этой связи припомнить хотя бы то, насколько масштабными были дискуссии о положении в стране и в жизни, проходившие на кухнях и в квартирах, в те времена ещё нередко – общих, а, кроме того, и на служебных площадках, не исключая даже кабинетов таких инстанций, как политбюро ЦК КПСС или КГБ.
Разумеется, явление «бури и натиска» вбирало в себя много анклавов; каждый имел свои краски, рассмотреть которые было бы весьма интересно и притом – с разных точек зрения; в тщательном анализе нуждается, однако, в первую очередь то, каким оно было само по себе, в его нераздельности.
Если, оглядываясь на середину прошлого века, вспомнить такую тогдашнюю устную духовную продукцию, как анекдоты, короткие, порою на ходу выдуманные сентенции, то, пожалуй, вот вам и случай убедиться, как сильно могло всё общество нуждаться в освобождении от перестоя в одной неудобной позе, а в каком-то смысле и – от самого себя, такого, каким оно было. Как безымянное творчество, сверхмобильное и не поддающееся никакому не только официальному, но и этическому удержу, анекдот, помимо ярких остроумных описаний фактического развала всего вокруг и соответствующего бесцеремонного юмора, включал в себя и матерную великорусскую грязь. Вот во что суждено было выплеснуться желанию общества жить свободно! Ничто иное – в условиях тотальных идеологических запретов – просто не годилось.
Влияние этого жанра не поддавалось измерению, настолько оно было огромным. Рассказывали анекдоты в курилках, дома, на работе и на службе, при любых встречах, в любое время дня и ночи. Ими не гнушался никто, ввиду чего становилось нормой строго на них не реагировать. Уже поутру клерки могли преподнести очередную замудрённую и в то же время простецкую, даже похабную новинку своему начальнику, почти не опасаясь нареканий. Рассказывать было не боязно и кому-нибудь из незнакомых, особенно в дороге, в местах ожидания, на разного рода съездах, сессиях, слётах, иногда – прямо с трибун. И что ещё удивительнее: анекдотов хотели, торопили с рассказом их первых обладателей, а потом сразу ждали уже следующих свежих. Целые их россыпи служили, как правило, к ободряющей консолидированной потехе, не устремлённой никуда. Но воспринимавшие их люди, не все, но многие, уже не могли не становиться другими. Ещё не переменив своих действий и даже не пересмотрев их, они были принуждены думать. В таких обстоятельствах оказывались подданные вассалов прошлых столетий и сами вассалы, слушая правдивые беспощадные и дерзкие откровения официальных придворных шутов. Теперь же роль шута впервые в истории брало на себя целое общество, и, безусловно, в себе такой феномен нёс огромные знаковые потенции.