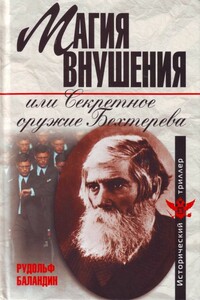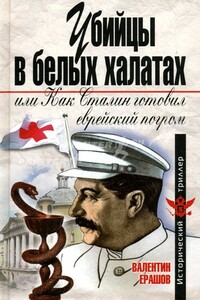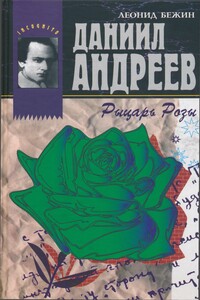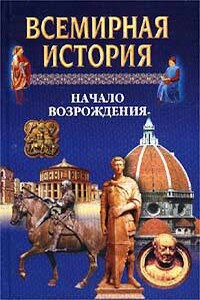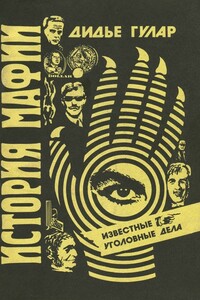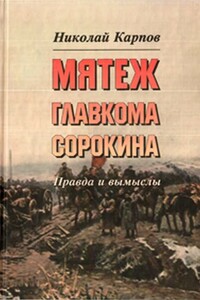Молчание старца, или Как Александр I ушел с престола | страница 66
Да, взгляд пытливый, изучающий и в то же время самоуглубленный – свидетельство ума, умеющего читать не только в душах других, но и в собственной душе. А ведь каждая душа – вселенная, и за каждой – тайна. Еще ребенком Александр задавал вопросы о том, для чего люди живут на свете, откуда сам он взялся и зачем послан в этот мир. Такая крошечка, едва что-то лепечет, а глаза задумчивые и задает вопросы, на которые и философ не ответит, даже такой, как Вольтер, а выше философа поистине только Бог. Во всяком случае, так считала Екатерина, всегда ценившая просвещенность, разум и не терпевшая суеверий, как и прочего вздора, невежества, косности и предрассудков. Поэтому в религиозном воспитании внука она проявила высшую деликатность, осторожность и разумную светскость, чтобы – не дай бог! – и эта черта не выперла и не подавила все остальные.
Екатерина пригласила в наставники Александру не бородатого, заскорузлого, рыжего попа с рябым лицом и хитрыми глазами (попа – хоть и в архиерейском облачении), а учтивого, рассудительного, воспитанного на манер англиканского пастора, европейского прелата протоиерея Андрея Самборского. Отец Андрей долго жил в Англии (довелось служить в посольской церкви), изучил порядки, быт и нравы туманного Альбиона, был женат на англичанке, принявшей православие, брил бороду и усы и носил светское платье. Был убежден (благородное убеждение!), что в каждом, независимо от положения, надо видеть ближнего своего. Ясно было, что он не станет заставлять Александра часами простаивать на коленях в молитве, бить поклоны и изнурять себя постом. Может быть, прежние московские цари и изнуряли, и долгие монастырские службы выдерживали, но Петр Великий положил этому конец, воплотив собой совсем другой царский образ: не коленопреклоненного молитвенника, а хваткого, сноровистого работника. Екатерина добавила этому образу державного величия, помпезности, блеска, и с ее властной осанкой императрицы никак не вязалось излишнее смирение, опущенные долу очи и покаяние. Конечно, и она могла в иных случаях скромно потупить глаза, но не больше. Глаза-то потупишь и не углядишь, как тебя одурачат, обманут, оберут до нитки, вокруг пальца обведут. Вот и не зевай, приглядывай за всеми…
Да и к тому же Россия теперь – Европа, в ней задает тон не Москва с ее Кремлем, колокольным звоном, боярскими палатами и раскисшими по весне купеческими слободами, в которых гонец завязнет и черт ногу сломит, а спланированный на европейский манер, правильный, регулярный Петербург, да и сама она по крови немка. Немка, любящая Россию, понимающая ее, преданная ей, чувствующая себя государыней-матушкой, как ее все и величают, но православию внутренне чуждая. Теплота православия оставляет ее холодной, а суровость и вовсе отталкивает. Да, она наставляет воспитателей внуков, Александра и Константина: «Когда идет речь о Законе (о христианской вере), тогда неинако отзываться при детях, как с достодолжным почтением». Наставляет так, словно не раз приходилось быть свидетельницей отзывов отнюдь не почтительных, даже дерзких и крамольных, и ей это всегда претило. Но спать в гробу, постригаться в схиму, удаляться в затвор, принимать обет молчания, носить вериги, власяницу, впивающуюся в тело, юродствовать, чудотворствовать, будущее прозревать, как тот же несчастный монах Авель, – в Екатерине все противилось, мучительно ныло, содрогалось при одной только мысли об этом, и Россия казалась азиатской и дикой Московией.