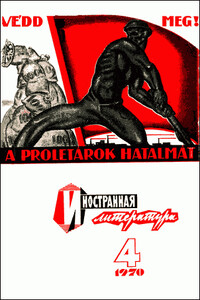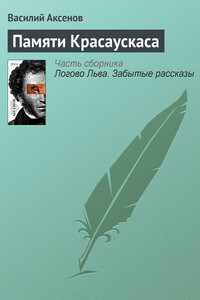Илимская Атлантида. Собрание сочинений | страница 2
Рассказы, повести и публицистика М. К. Зарубина – словно река, питающаяся из единого истока, символом которого стал Илим, водный путь в Иркутской области, родине писателя. Место, где родился автор, десятилетия тому назад было глубоко залито водой, сделавшись для него священным Градом Китежем.
Писатель говорит: «…моя малая родина – весь Илимский край, куда вмещается моя жизнь со всеми ее связями, поездками, лесами и полями, птицами и зверьем, ягодами и грибами, горестями и радостями, которые трудно пережить в одиночку. Да, все это, от горизонта до горизонта – моя малая родина – великое четырехмерное пространство, которое умещается в моем сердце». Появившись на свет в Восточной Сибири, Михаил Константинович волею судьбы на многие годы оказался связанным с Ленинградом-Петербургом, восприняв город всем своим существом. Мощная дуга Иркутск—Петербург словно радуга над бескрайними русскими просторами в творчестве писателя. Россия – в его сердце, в живом созидающем слове.
Г. В. Скотникова, доктор культурологии, профессор
Долгая дорога к маме
Повесть
Благодатное утреннее июньское солнце быстро растопило ночную прохладу. Поднимаясь выше и выше по небосклону, оно согрело воду в реке, радужно расцветило песчинки в дорожной пыли, раскрасило теплыми акварельными красками лепестки цветков, поворачивающих ему навстречу свои горделивые головки, покачивающиеся в волнах пронизанного светом ветра. Несвязные ноты птичьего чириканья, прерывно доносящегося с разных сторон, постепенно распределились по высоте, выстроились в гармоничный музыкальный ряд, и слитный многоголосный птичий хор счастливо грянул оду новому дню. Эта неповторимая музыка становилась все громче, полнозвучная она разливалась над просветленными полями, над встрепенувшейся тайгой. Казалось, ликующая мелодия устремилась к высшей точке лазоревого, расшитого как парча золотыми нитями солнечных лучей небесного купола, бережно обнимающего пробуждающийся мир.
Жизнь прожить
В доме Анны Карнауховой все проснулись рано, кроме четырнадцатилетнего Мишки, который ночевал на сеновале.
Сама Анна уже и не помнила, когда нормально отдыхала. Сильнейшие боли не давали покоя ни днем, ни ночью. Иногда, в промежутках между приступами, ей удавалось забыться, но это случалось все реже и реже. Она, еще не старая женщина, жила вдвоем с сыном, муж прошедший всю войну, израненный, живого места на теле не было, пришел с фронта и умер буквально через год, простыл на Ангаре и сил выжить не хватило, дочери вышли замуж и разлетелись из дома, счастливые, даже не от замужества, а от возможности освободиться от «колхозного крепостного права» и получить в сельсовете паспорт, который многие деревенские жители никогда не видели.