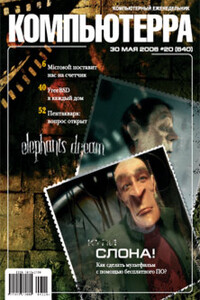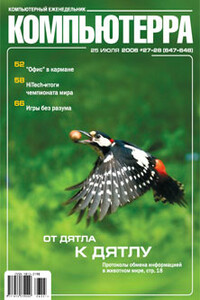Очерки истории кибернетики в СССР | страница 44
Сегодня не нужно особо разъяснять, что быть членом коммунистической партии и быть коммунистом – далеко не одно и то же. Одно дело – «признавать» коммунизм (в 50-е-60-е годы даже самые лютые враги Советской власти не могли позволить себе сомневаться в его неизбежности), и совсем другое – самому реально быть коммунистом. Ведь каждому отдельному человеку все равно нужно было до него «доходить по-своему». Членов партии среди ученых тогда было очень много, но для подавляющего большинства из них это было скорее «общественной нагрузкой», не связанной непосредственно с их научными занятиями. Большинство из них становились членами партии еще до того, как они становились учеными, а из тех, кто вступал в партию, уже достигнув в науке определенного положения, немалая часть руководствовалась при этом далеко не научными, а, например, карьерными соображениями. Во многом коммунизм и специальные науки все годы социализма так и продолжали существовать отдельно, соединяясь скорее организационно, чем идейно.
Видимо, будучи натурой цельной и последовательной, привыкнув до всего доходить своим умом (именно умом, а не просто чувствами), не умея и не желая фальшивить в принципиальных вопросах, Глушков чувствовал искусственность и некоторую натянутость такого положения вещей. Скорее всего, именно поэтому членом партии он стал довольно поздно, в 1958 году, уже будучи руководителем Вычислительного центра АН УССР, который имел статус научно-исследовательского института.
Но даже в это время настоящее научное «признание» Глушко-вым коммунизма было еще впереди. По-настоящему, «через данные своей науки», В. М. Глушков пришел к коммунизму двумя-тремя годами позже. К 1962 году он был полностью уверен, что настоящее применение кибернетики как науки – в управлении плановой социалистической экономикой. Только здесь она реализует себя в полную мощь.
Уже к началу 60-х годов стало очевидно, что планировать советскую экономику и эффективно контролировать исполнение планов из единого центра становится все труднее и труднее по причине катастрофического увеличения количества экономической информации, которую необходимо при этом обрабатывать.
Подавляющее большинство экономистов в это время склоняется к мысли о необходимости дальнейшей децентрализации управления, что неизбежно вело к необходимости усиления роли рыночных рычагов для управления хозяйством, то есть к возврату назад, к господству товарного хозяйства. В принципе, экономистов можно при желании понять. Ведь политическая экономия сама по себе не обладала средствами борьбы с назревающим кризисом управления. Выход мог быть найден исключительно на путях изменения технической базы управления.