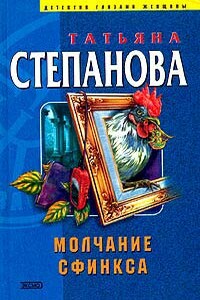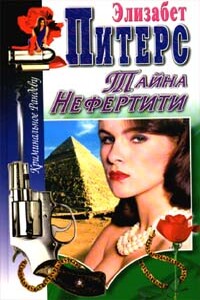37 девственников на заказ | страница 29
Никогда ничего не менялось. Если я не убирала со стола свою чашку, она ждала меня неделю, две, заплывая плесенью ожидания; герань цвела; котенок висел на занавеске; забытая кем-то на стуле в коридоре дылда роза, изысканно-древняя, устрашающе-шипастая, потрескивала от сквозняка папирусом высохших лепестков, и никто ведь не сел на ее шипы, наткнувшись глазами на нашлепку крови там, далеко-далеко — после длинной кишки коридора, — в комнате радости на мутном стекле, или не убрал дохлую розу, чтобы сразу, с порога, устроиться на стуле основательно и поплакаться “про жизнь”.
— Если тебя не устраивает твоя жизнь, — сказал Бог, — придумай другую.
— Как это? — не поняла я. — Любую?
— Любую.
— И она появится?
— Конечно! Обязательно! Всенепременно и в любой момент. Как воспоминание. Вот, например, я. На прошлой неделе вспомнил, что в молодости, обладая счастьем и ужасом аутизма, прожил почти шесть лет, фотографируя и снимая на камеру мертвецов. Зачем? Какое-никакое пропитание. Почему мертвецов? Да какая разница. Может быть, они меня устраивали своим полнейшим невмешательством в мою жизнь, отстраненностью и превосходством отсутствия, тогда как любой живой человек подавлял, пугал и унижал навязанным присутствием. Я вспомнил радость обладания одиночеством, ты и представить себе не можешь, как это восхитительно — обладать одиночеством. Нет, ты не понимаешь. Вот сейчас, к примеру, я обладаю твоим одиночеством.
— Как это?..
— Как это, как это… Ты поглощена мною целиком, ты себя не ощущаешь, ну и где ты, спрашивается? А-а-а! То-то же. Попробуй теперь, верни свое одиночество. Не можешь!
— Ладно, противный старик, поедающий котят, верни сейчас же мое одиночество!
— Не так просто, не так просто… Одиночество предполагает нечто, что другие никогда не поймут и не узнают. Например. Я свято храню в себе прекраснейшее пятисекундное оцепенение от вида голой попки дочери нашей кухарки. Каждый раз, когда я вспоминаю эту попку, широко расставленные ножки в серых чулках и кудряшки у колен — девочка наклонилась и снизу, между расставленных ног, ткнувшись подбородком в спущенные трусики, смотрела на мое лицо, — я замираю оттого, что впервые в шесть лет приоткрыл для себя понятие страсти и посильного стыда. Но это не полностью мое воспоминание! Им наверняка пользуются другие — девочка, ее мать, которая нас застала, мой старший брат, долго потом изводивший меня насмешками. И нет никакой надежды, пойми — никакой! — на хотя бы частичное забвение ими моего панического отчаяния от их присутствия.