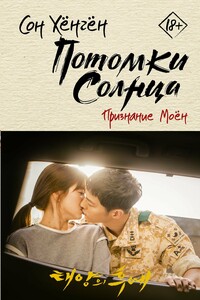Могила Густава Эрикссона | страница 170
Весь древний город умещался на небольшом полуострове, образуемом замысловатым изгибом реки Кашинки. Кому-то это кольцо реки напоминает сердечко, кому-то голову инопланетянина. Враждебным Твери московским князьям оно напоминало несокрушимую твердыню. Кашинка не самая маленькая на Северо-Восточной Руси речка. И сейчас её ширина достигает сорока метров, а тогда она была полноводней. Да что там, в Средние века, ещё сто двадцать лет назад по ней до Кашина доходили волжские суда. Со всех сторон основанный тверскими князьями город был защищён рекой. Доступ к Кашину имелся только со стороны на удивление узкого перешейка между изгибами реки, через который был прокопан глубокий ров, укреплённый высоким валом с тыном и частоколом. Сохранившиеся поныне остатки деревянного кремля, по местной традиции называющегося «Острогом», относятся к 1447-му году. Крепость состояла из двух частей. Внутренняя находилась на высоком плато, зажатом излучинами. С юго-востока за рвом к Острогу примыкала внешняя часть крепости – предпольное укрепление на высокой Духовой горе.
Валы внутреннего Острога сейчас можно рассмотреть только со стороны реки, они возвышаются над водой метров на пятнадцать. Внешняя крепость на Духовой горе сохранилась гораздо лучше. Длина валов там достигает четырёхсот метров, с внешней стороны они возвышаются на двадцать пять метров, с внутренней – на семь. Туда я и направился.
Прямо по верху вала шла одна из аллей разбитого на Духовой горе в начале XIX века городского сада, сейчас заброшенного и запущенного. На внутреннем склоне ещё лежал снег, ночью его даже слегка прихватило морозцем. Пока я карабкался наверх, пару раз чуть не навернулся, – подъём был очень крутым. Деревья в городском саду теснились друг к другу, как в настоящем лесу. Было много старых елей, в тени которых снег пока таять не собирался. Зато с внешней стороны Духовой горы утреннее солнце устроило настоящий фестиваль апрельского колдовства. Пастельные краски прошлогодней травы перемежались изумрудными всходами этой весны, яркие лучи преломлялись в реке и слепили глаза, кое-где вовсю уже цвела мать-и-мачеха, бабочки сновали в воздухе, как дивные летающие цветы. Дул свежий и тёплый ветер, унося с собой все остатки похмелья. Я шёл по крепостному валу и чувствовал себя жизнерадостным идиотом, которому ничто не мешает чувствовать себя счастливым.
Где находятся руины Дмитровского монастыря, я отлично представлял по карте. Но почему бы не сделать рекогносцировку, забравшись на высоченную колокольню Воскресенского собора? Я зашёл в ампирную громадину, от души поставил свечу Пресвятой Богородице и поблагодарил её за такую благодатную весну, пожертвовал сто рублей на ремонт храма и полез на 76-метровую колокольню, возвышавшуюся над всем городком. Мне удалось долезть до самого верхнего яруса. Панорама с него открывалась фантастическая. На востоке за речкой Вонжей, как на ладони, виднелись остатки Клобукова монастыря, его надвратная Покровская церковь действительно уникальна по архитектуре, надо будет посмотреть. Там же на востоке на вершине Дорожаевской горы высилась Петропавловская церковь, выглядящая издали, как деревянная Богородская игрушка. Совсем на западе располагалась когда-то Поганая слобода, где кашинские купцы развернули производство свинцовых белил по рецепту Густава Эрикссона. Сейчас там, на взгорке над рекой, стоит безумно красивая барочная Крестознаменская церковь. На севере Ильинскую гору венчает одно из главных украшений городка, Ильинско-Преображенская церковь. Между ними на северо-западе я увидел руины Страстного и Троицкого соборов Дмитровского монастыря. Та самая берёзовая роща спускалась от них к Кашинке. Пешеходный мост через реку вёл к Крестознаменской церкви. Идти мне туда минут пятнадцать, не больше. Я ещё раз окинул взглядом окрестности, как Наполеон перед Аустерлицем, и стал спускаться с колокольни.