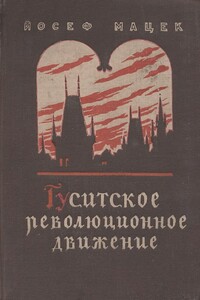Общественное движение в России в 60 – 70-е годы XIX века | страница 14
Бедственное положение масс сказывалось наиболее сильно в южных районах, которые находились всего ближе к театру военных действий. В Таврической губернии с 1853 по 1855 г. число трудоспособных крестьян уменьшилось почти на 40 тыс.; в трех уездах вовсе не было произведено посевов; четыре пятых скота пало от чрезвычайной дороговизны кормов, от усиленных перевозок военных грузов по плохим дорогам и т.д. В Херсонской губернии эпидемические болезни и тяжелая подводная повинность вызвали уменьшение рабочих рук. Постоянные перевозки для нужд армии сильно отражались на крестьянском хозяйстве и в Екатеринославской губернии. В Бессарабии крестьяне несли тяжелые повинности по устройству укреплений, сооружению дамб при переправах, заготовлению леса[28].
Исполнение государственных повинностей, вызванных войной, не освобождало крестьян от обычных повинностей в пользу помещика. Отработав несколько недель в одном из укреплений, крестьянин по возвращении домой посылался помещиком на его, помещичью, работу. «…Казенное дело кладет на наши дни!» – с возмущением отзывались крестьяне о помещиках[29].
Обостренную нужду и лишения испытывали, однако, крестьяне не только прифронтовых губерний. Из Гродненской губернии сообщали министру внутренних дел, что ряд неурожаев, холера, затем усиленные рекрутские наборы вызвали недостаток в работниках, причем особенно трудно было «положение работников с упряжью, вследствие неоднократного падежа скота». Из Черниговской губернии жаловались на большое число жертв от холеры и на то, что четыре рекрутских набора и государственное ополчение поглотили по 61 человеку (и именно наиболее годных работников) с каждой тысячи крестьян, чем ослаблена была рабочая сила сельских обществ. Вятский губернатор, отмечая, что губерния отдала в армию более 35 тыс. человек, указывал, что часть крестьянских семей лишилась самых работоспособных своих членов, оставшись «при пожилых и подростках»[30]. Аналогичные сведения поступали и из других районов, рисуя общую картину дальнейшего обеднения и разорения деревни.
Ополченцы, переброшенные из Центральной России на южные окраины, понимали, что их семьи обречены на голод. Наблюдавший в Бессарабии ополченцев И. Аксаков сообщал: «Ратник, которого я брал с собою в дорогу, едучи в Кишинев, мужик лет 50-ти, рассказывал мне со слезами на глазах, что у него семь человек детей, один другого меньше, что жена его умерла месяца два тому назад.., что дети его ходят по миру». Это был не исключительный, а типичный пример. Резюмируя свои впечатления от общения с ополченцами, Аксаков невольно признавал: «Если вообразить себя на их месте, на последней ступени общества, под давлением тяжести всех сословий, одного над другим, под игом всего общественного устройства… так, кажется, повесился бы или спился бы»