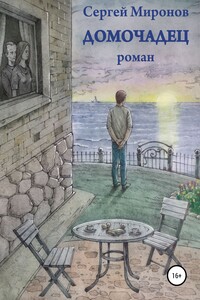Два балета Джорджа Баланчина | страница 8
По дороге от Лидии Ивановны Ирсанов зашел на Василеостровский рынок и купил там для матери то, что планировал. Еше не было и пяти часов вечера, поэтому Ирсанов мог не торопясь собраться в театра. После его возвращения в лоно родительского дома его прямой обязанностью было погулять с любимым пуделем матери, уже довольно древней Жоли[1], которая, лежа на своей кушетке в их просторном коридоре, возвращение Ирсанова восприняла без всякого энтузиазма.
— Да не тащи ты ее, друг мой, по такой погоде, — вяло взмолилась мать Ирсанова, отрываясь от свежих «Аргументов и Фактов».— Вернешься и сходишь.
Да пусть пройдется. Меня ведь долго не будет. — И Ирсанов принудил бедную Жоли облачиться в ветхий ошейник и «сделать свои дела» непосредственно в Румянцевском саду, с некоторых пор утратившем свое былое великолепие и превратившемся в подобие площадки для выгула собак и детей.
– Как, вы уже? — обращаясь к Жоли и сыну, спросила старушка, прежде препятствовавшая их прогулке. — Помой ей лапы, а то грязь нанесет, вчера только «Невские зори» все полы натерли. Да дай ей что-нибудь пожевать. Она у меня приучена с прогулки что-нибудь пожевать. Возьми в холодильнике котлетку.
По нынешним временам «взять в холодильнике котлетку» было довольно мудрено, но Ирсановы мясо не ели и потому для Жоли в холодильнике всегда лежала натуральная котлетка, изготовленная в угоду беззубой собаке из купленного на рынке мясного кусочка, причитающиеся же Ирсановым мясные и колбасные талоны мать отдавала дворничихе, приходившей через день подметать квартиру и выносить мусор, за что, кроме пресловутых талонов, получала твердое жалование, а за дополнительную плату помогала старушке принимать два раза в неделю ванну.
Он положил перед уже задремавшей Жоли «котлетку». — Ну и слава Богу. Пусть теперь спит до ночи. И укрой ее, друг мой, пледом... А ты сам-то когда намерен вернуться? Я усну без тебя, ты только оставь мне мои капли и мое снотворное. Да свет не гаси, ты же знаешь, я не люблю потемки.
Выполнив требуемое, Ирсанов быстро переоделся и вышел из дома.
До начала спектакля оставалось еще довольно много времени, но Ирсанову не сиделось дома и он решил отправиться в театр пешком по сотню раз хоженному маршруту. Выйдя из дому, он был приятно удивлен тем, что осеннее небо понемногу расчистилось от тяжелых туч, и ввиду усиливающегося похолодания далеко за бывшим Николаевским мостом, который мать Ирсанова все никак не могла привыкнуть называть мостом Лейтенанта Шмидта, зарделось последнее в это время суток солнце, отчего смуглые сфинксы напротив Академии художеств и некоторые фонари на мосту вдруг посветлели и даже засияли. Ирсанов посмотрел в сторону солнца, слегка сощурился и улыбнулся. С ним часто бывало так: не имея никаких особенно веселых мыслей, он дружественно чему-нибудь улыбался — ребенку в коляске, взлетевшей из-под ног птице, старикам, играющим в саду в вечное домино на солнечной скамейке... Из всех времен года Ирсанов особенно любил весну и начало лета, но случалось, что он бывал улыбчив и осенью, и зимой. Такая внезапная улыбка могла появиться на его лице помимо его воли и желания; кажется, что у нее была своя жизнь и судьба. Знавшие и любившие Ирсанова люди любили в нем эту его улыбку, а люди случайные и посторонние, бывало, тоже откликались на нее, и тогда Ирсанов начинал думать о людях все самое лучшее, часто заблуждаясь на их счет, но он об этом не знал, и люди об этом не знали и не хотели знать.