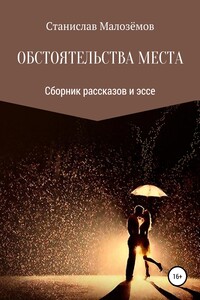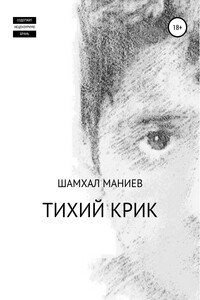Два балета Джорджа Баланчина | страница 71
Юноша Антиной утонул в Ниле, а Адриан, уставивший города и веси огромной империи изображениями погибшего обожествленного возлюбленного, сочинил горькую автоэпитафию:
Особо знаменательна последняя строчка, дышащая чуть ли ни новозаветною новизной: дарить, а не брать. Император Адриан жил в эпоху, когда платонизм в обличии христианства отвоевывал мир и когда маленькая телесная страсть разрасталась в Любовь с заглавной буквы. Но сам он, увы, еще не верил в реальность радостной, попирающей смерть, встречи со своим Антиноем. Впереди ему не рай и даже не ад мерещились, а царство Плутона — «край бледный, мрачный и голый ». Туда и уходила его душа.
Нам-то теперь жить легче. Мы знаем, куда ныне уходит душа. Как Пастернак объяснил во «Втором рождении»: «с Запада» — на восток. Восток, ясное дело, занесен снегом и скован льдом, опутан гулаговскою «колючкой». Но нам привычен, и здесь, кроме всего прочего, все-таки есть кому дарить и у кого брать радость. Об этом, в сущности, и повествует Трифонов — скажем, в романе «Сетка», куда больше напоминающем Лонга с Гелиодором, чем Шаламова с Солженицыным. Можно, разумеется, спорить о том, что лучше в художественно-стилистическом плане — нежная незлобивость традиционной идиллии или язвящая наблюдательность реализма; но тональность эллинистического романа здесь всерьез проверена временем.
Геннадий Трифонов прекрасно осознает возможности свойственной его перу стилистической манеры и ни на йоту не отступает от своего этического и эстетического кредо. Человек, полный жизни и жизнью заинтригованный, он, однако, уже успел написать свою автоэпитафию, свой «Exegi monumentum...» — причем написал его там, где, по выражению Державина, «с Рифея льет Урал», в краю «мрачном и голом», в лагере:
Трифоновская самооценка, выдержанная в излюбленных им черно-белых тонах платонического двоемирия, глубока и верна. Бог поминается тут не «ради красного словца» – ради слова, которое в России всегда крупнее и значимей всякого дела. За слово, а совсем не за дело, у нас и сажают. Прежде всего — за слово «любовь».
Геннадию Трифонову посчастливилось произнести это слово вовремя, пробив немоту, наступившую в начале тридцатых годов, когда наши властители – тоже своего рода «платоники», только вульгарные и по-материалистски ущербные – как бы вычеркнули «идею» однополой любви (а вернее даже — идею любви человеческой, внегосударственной и внеклассовой) из своего «идеального» универсума. Противостояние Трифонова и советской власти, следствием которого стало его заключение, имело некий философский оттенок: писатель, как сказали бы на марксистско-ленинском новоязе, «протащил идейку» — сам того, конечно, не ведая, а просто изображая свой мир.