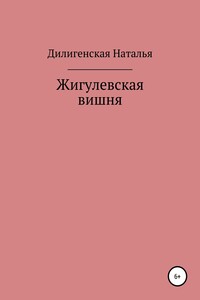От дороги и направо | страница 64
Я тогда пошел к Сархату. Он вместо брата бугор стал и на Москву ездил с бригадой. Сам набирал таких, кто его боялся и показывал как он Сархата уважает. Строили тоже маленьких столовых. Тот же пищеторг денег платил.
Сархат сказал, что два дня подумать будет. Надо кого-то убрать из бригады. Говорит, занято всё. Но из-за памяти к моему брату меня, сказал, возьмет. И мы на марте месяце поехали. По дороге на поезде ехали две сутки. Сархат один раз подошел к моей полке и рассказал про свой порядок. Не такой как у мой брат был. Все ему теперь дают пятнадцать процентов от заработка. Оплата за место в бригаде. За то, что имеешь работу. А мне сказал, что в честь памяти про брата я буду давать ему только десять процента. Ну, думаю, ладно. Девяносто процент тоже хорошо мне будет. Отец мотоцикл наладит, корову заберут другую вместо мёртвой.
И мы скоро приехали работать. Трое месяцов я как ишак упирался, делал всё сильно. Всё болело. Он меня поставил на бетон. Месил я на лопате цемент с крошкой из камень. А он все три месяца платил на меня меньше, чем бригаде на два раза…
Тут Пахлавон замолчал и отвернулся. Он медленно и мелко перебирал ногами в сторону, ввинчиваясь задом в песок и поворачиваясь на песке спиной ко мне. Острые плечи его подрагивали как крылья сидящей на цветке бабочки. Рукавом он вытирал нос и глаза, сопел и что-то злое шептал по таджикски. На берег выкатывалась небольшая волна и, переваливаясь через отполированные прибрежные камни, всхлипывала, будто плакала. Но плакал Пахлавон. Безмолвно, дрожа плечами и отгребая от себя трясущимися пальцами мелкий как пыль песок. А хлюпающая волна очень точно озвучивала его состояние.
Маленький, хрупкий Пахлавон стал ещё меньше от горьких воспоминаний и не стихшей в душе обиды. Так сидели мы почти полчаса. Я его не успокаивал. Мне казалось, что он выговорился так впервые. И заплакал впервые после того, как прошел через унижения и наткнулся на зло там, где совсем не ждал.
Поднялся, опираясь маленькими кулачками на песчаную зыбь, пошел, продолжая вполголоса выкидывать из глубины души замысловатые таджикские ругательства или проклятия, долго умывался, намочив волос и одежду, даже ноги помыл. Убрал, наверное, водой грязь тяжелых воспоминаний. Обулся, ещё раз тщательно протер рукавом рубахи покрасневшие глаза, вернулся, сел так же и на то же место. И стал рассказывать дальше.
Но от расстройства, видно, русские слова, которые он знал, смешались в какое-то слипшееся месиво, которое я не смогу передать точно, да и не поймете вы почти ничего. Мне тоже пришлось его бесконечно переспрашивать. Поэтому разговор наш затянулся и добивали мы его уже на ходу, чтобы на пристани успеть застать моториста.