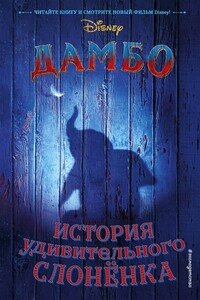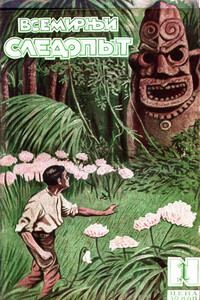От дороги и направо | страница 125
Ну, вот, перевел я тебе с фени всё практически дословно. Теперь только на нормальном языке буду говорить. Честно если, мне эта феня самому давно вот тут сидит! Сволочной язык, то есть жаргон. Придумали-то его черт знает когда ещё. Для того, чтобы отделиться от лохов. От простого народа, значит, от честного. Который грабили, на гоп-стоп брали, чьи дома опустошали. Как враги, мля. Ну и чтобы понятно было: раз по фене ботаешь, то свой. Вор. Блатной, приблатненный или фраер – неважно. Главное, что тоже из преступного мира.
Ну, про то, как я в первый раз на кичу залетел, то есть, сел в тюрьму, блин, я расскажу попозже. Сперва про детство поясню маленько. Оттуда жизнь моя кривиться начала незаметно. Я с 37 года. Питерский. Рос в блокаду. Началась она, мне и пяти лет не было. А закончилась, когда я почти девятилетним орлом был. В то время быстрее взрослели, чем сейчас. А блокадники-шмокодявки в семь лет уже, считай, ум и опыт взрослых людей имели. Я мало чего помню из начала блокады. Папка с маманей работать ходили, как всегда. Они оба на молочном заводе пахали. Мама вроде кефир готовила в цехе, а отец на ГАЗоне, на ГАЗ-ММ, ну, полуторка которая, молоко развозил по магазинам. Меня, кстати, катал иногда вокруг квартала. Это я хорошо запомнил. Первый год блокады они ещё ходили, работали. На второй год летом завод закрыли. Это мне мама потом уже рассказывала, когда мне лет четырнадцать исполнилось. Она через свою тётку родную устроилась уборщицей в исполком нашего района. А отец на «эмке» год ещё возил зама директора мебельного комбината. Тот жил на Васильевском острове, с комбината уезжал поздно очень и мы отца почти не видели. Он приезжал к полуночи, я спал уже. А уезжал в семь утра. А в конце сорок второго, в октябре где-то и комбинат захлопнули. Материалов не стало, фурнитуры и, главное свет стали выключать почти на весь день. Рано утром давали и где-то с семи до девяти вечера. Чтобы успели поесть да помыться. Отец после войны уже рассказывал, что в сорок втором зимой в домах и воды не стало. Потом батареи отключили, Отопления не стало. Мазут кончился у тепловиков, а завезти уже нельзя было. Я вот этого ничего не помню – когда холодно стало в квартире. Просто помню, что было жутко холодно. Потом отец нашел на чердаке два больших листа толстой жести. Крест-накрест на пол под окно положил, концы загнул, потом с улицы приволок доски от скамеек из сквера ближнего. И сухих веток из того же сквера. Половину комнаты всё это заняло. Они с маманей доски ломали и рубили отцовским маленьким топориком, потом батя строгал одну доску на щепки и в середине этого железа разводил небольшой костер. Железо накалялось, было почти тепло. Может и жарко могло быть, но он открывал форточку, чтобы дым уходил, поэтому с улицы холод все-таки залезал в хату. На этом костре и варили, пока находили, что можно сварить. Грелись возле почти красной от жара жести. Мама рассказывала после войны, что очень много ленинградцев умерло за блокаду. Особенно с конца сорок второго и до января сорок третьего, когда пробили дорогу по Ладоге. Но ещё тяжелее даже мне, пацану сопливому, было слушать от неё же, что люди сбегали из города. Много убежало-то. Существовали, оказывается, дорожки, по которым можно было живыми уйти.