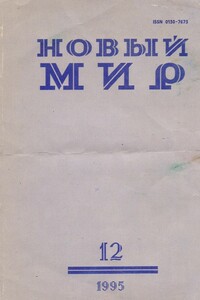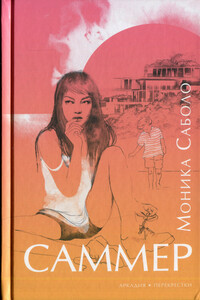Погода в ноябре | страница 7
И все-таки я продвигался вперед. Видно, оделся слишком тепло и потому даже взмок, пока шел; стало щипаться нижнее белье, а шерстяной шарф просто терзал. Так я двигался, вернее, перемещался от фонаря к фонарю, пока внезапно надо мною не навис прямоугольный желтый палаш с острыми углами. Черт меня дернул выйти сегодня из дому! Приглядевшись, однако, к палашу, я заметил название остановки и цифры разных цветов…
Когда-то, тысячу лет назад, из снежного кошмара выплывал, ныряя носом, спотыкающийся на стыках трамвай и тренькал: трень-трррень-тррень; тысячу лет спустя я все так же сижу в нем. Мне никогда еще не было так все равно и тепло…
…И когда Сашка пропадал надолго, я представлял себе, как он идет по какому-нибудь Можайску в своей длиннополой шинели. На лице — мука самокопания. Жарко — он запарился, но движется быстро: он ищет водку. Пыль дымится у него под ногами, улицы безлюдны, слепые запаутиневшие окна домов. Вот он спускается в овраг, заросший бурьяном, скользит по глине, цепляясь за колючий барбарис; склизкие бревна внизу, низенькая скамеечка, бьет холодный ключ. Он напился и, даже не умыв лица, быстро поднимается вверх. А если зима? Тогда он наверняка где-то в Питере. Переходит Невский проспект, направляется к Лиговке. Стремителен, размахивает руками, брызжет талый снег из-под ног, полы порыжевшей шинели разлетелись, под шинелью — ничего, кроме рубашки; идет, широко вышагивая, в черных высоких ботинках, в серых обмотках до колен; левое плечо немного вперед, а правую руку чуть закинул за спину, согнув самую малость в локте, — он идет, как какой-нибудь цареубийца-студент. И в эту самую минуту подъезжает открытый “фиат” с кожаными чекистами. Они стреляют в Сашку. Но он скрывается от них в бурость домов, где в подворотне, черный, как жук, сверкает блестящей крышей “Руссо-Балт”. Сашка загибает за угол, они — за ним и стреляют. Он выдергивает откуда-то пистолет и, раскинув, как бабочка, шинель, отвечает кожаным — очередью, те вторят ему беспорядочной пальбой. Он убегает от них по каким-то петербургским дворам-колодцам. А куда ему бежать? Кто-то метит ему в спину! Но чтобы Сашка замер как вкопанный, разбросав руки и погасив фалдами проем подворотни, и гневно закричал в небо, провернувшись винтом, а потом упал в жидкий снег лицом, и крови не видно? Не бывать этому! Вот он врывается в первый попавшийся подъезд, в него опять стреляют, но мимо, мимо, и дверь захлопывается прежде, чем долетает пуля; он бежит по каким-то лестницам, мелькает в пролетах, скатывается кубарем, громыхает ботинками, вываливается на улицу, отталкивает прохожего, несется. Машины начинают пукать и верещать на него клаксонами; он поскользнулся, но устоял, потом еще раз, падает на спину, однако успевает втянуть голову в плечи и не ударяется затылком о булыжник. Вот он выскочил на какую-то длинную улицу. Как будто пригород. Но куда он бежит? Интересно взглянуть ему в лицо. Я догоняю: глаза огромные, без белков, пепельно-синие, залитые влагой и сумасшедшие. При каждом шаге косая складка мелькает на его косоворотке: сверху вниз, слева направо, справа налево, слева направо, справа налево — однообразно, как и чавканье под ногами. Он бежит, втянув голову в воротник так, что видна только макушка. С силой заглатывает воздух, с мучительным горловым звуком, похожим на икание. Я покидаю его и возвращаюсь на несколько шагов назад, прислушиваюсь: нет ли погони? Где-то позади клизмят клаксоны, но нет уверенности, что это — за ним. Да что ему они, эти клизмы-клаксоны, эти медные мягкие раструбы-поганки, пускай клаксонят сколько им влезет, пускай клизмят, гугнявят — да подавись! Пусть рядом с ним едет этот “фиат”, набитый