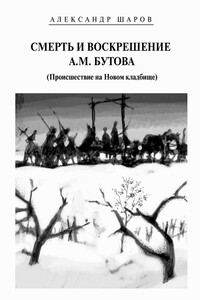Жизнь Василия Курки | страница 5
Подполковник потрогал двухсуточную щетину на щеках. Запихивая в мешок бинты, вату, свертки марли, он негромко сказал Гришину:
— Лузенцев говорит, знаете, из оперативного : немца притащили ; оттуда, через грязь, волоком . Немец очухался и за свое - операция неграмотная: «У нас к Тарнополю автострады и железнодорожные колеи, а у вас ни одной дороги. Шестьдесят километров болота. Пока мы перебросим двадцать снарядов, вы - один . Мы - двадцать батальонов, вы…» Каков, а ? ! Что бы вы этому подлецу ответили, товарищ майор ?
— По морде бы стукнул .
— По морде ?.. - Подполковник, поглядев на Гришина, скептически покачал головой. - Не знаю. И «по морде» - не в вашем стиле… А сопоставление, если так, отвлеченно рассудить, убедительное. Двадцать снарядов и один, автострады, а у нас все на плечах. Связи нет. Не подразделения, а бредут себе в чистом поле солдатики… -
Помолчав, сказал еще: - Ставка на что? На одно: доверие к человеку. И еще на неожиданность удара. Так, что ли?..
Гришин не ответил.
В хату зашел пожилой солдат в куцей шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, и кирзовых сапогах. Стоя на пороге, он снял пилотку с бритой головы, не по-военному, поклонившись, сказал :
— Пани Ядвига, дозвольте трохи отдохнуть. Дорога дальняя.
Ядвига скользнула равнодушным взглядом по лицу солдата и вдруг, всплеснув руками, бросилась к нему:
— Татусю! О матка боска, яки млоды!
Отец гладил дочку по голове, по плечам и обводил глазами хату. Оглядывал медленно - стены, углы, начиная от того, слева от двери, - там были свалены хомут, шлеи, всякая конская упряжь, - печь, стены, где висели фотографии в рамках и картинки, вырезанные из журналов, окна, залепленные облаками и серым туманцем, сквозь которые виднелась черная с белыми островками снега земля. Островки эти - даже не белые, а серые - плыли в тумане. И земля пыталась скрыться в дымке, словно моля о покое, одном только покое, который нужен ей, истерзанной, окровавленной, чтобы напиться влагой вместо крови, принять весеннюю влагу в самое свое чрево, а потом родить хлеб для людей, которые будут же на свете .
Он гладил дочку по голове и, переводя взгляд с предмета на предмет, говорил однотонно, не повышая и не понижая голоса, строго, как бы читая завещание :
— Шлеи попросишь пана Казимежа, чтобы починил, в ножки ему поклонись. Пан Казимеж сухорукий, его в солдаты не возьмут. Пан Казимеж скажет: зачем это? Коняку забрали, и тату забрали. А ты скажи : коняка, даст бог и матка боска, к весне вернется, и татусь тэж.