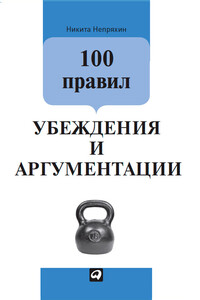Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению | страница 25
Присутствовавшие в зале преподаватели, услышав вопрос, побелели; кто-то инстинктивно зажал себе ладонью рот, а один даже перекрестился.
Вопрос, скажу откровенно, поставил меня в тупик. Во-первых, потому что правильного ответа, очевидно, быть не может. А во-вторых, потому что еще надо было понять, насколько все готовы услышать мою позицию. Мы живем в уникальное время, когда церковь стала не просто транслировать традиционные религиозные идеи, а еще и диктовать свою мораль в ранее чуждых ей сферах.
Но действительно, может ли человек религиозный быть еще и критически мыслящим? Для начала скажу, что я атеист. Нет, это не означает, что я ни во что не верю. Верю, еще как! Верю в людей. Верю в человеческие возможности. Верю в силу природы. Верю в удивительное чудо создания необыкновенного — нашей Вселенной. Но я не верю в административный институт под названием «церковь».
Нельзя не привести замечательную аналогию, которую придумал английский математик и философ Бертран Рассел. Он хотел опровергнуть идею о том, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающихся[82]. Для этого в 1952 году он написал статью «Существует ли Бог?»[83].
Приведу небольшой фрагмент: «Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот — скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако, если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся — достойным внимания психиатра в просвещенную эпоху, а ранее — внимание инквизитора»[84]. Позже эту аналогию так и стали называть: «Чайник Рассела».
Вот и меня с детства приучали к православию. Точнее, даже не к православию, а к ритуалам. Мне не объясняли происхождение и значение тех или иных символов, я просто знал, что перед иконой должен испытывать трепет; богохульство — самое страшное, что может быть; на Пасху мы будем красить яйца; в церкви нельзя громко разговаривать и свободно себя вести; если что-то тебе нужно, то необходимо помолиться; более того, каждый раз перед сном надо прочитать молитву, чтобы тебе простились все грехи, а следующий день был удачным. Так я и воспитывался, без раздумий воспринимая и копируя модель поведения старших.