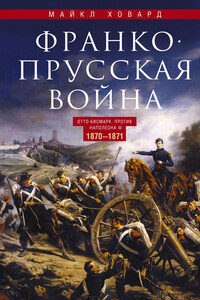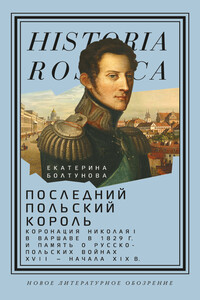Наследники Ленина | страница 122
мая, кухня, комната для прислуги. Когда к нам приехали Плехановы, жена преребралась в мою комнату, я в библиотеку, всю остальную часть квартиры --т. с. три комнаты -- мы отдали в полное распоряжение Плехановых, получивших, таким образом, помещение, на которое они не рассчитывали. На это обстоятельство обращаю внимание потому, что благодаря ему Плехановы смогли принимать множество их навещавших людей и, например, три раза устраивать собрания, московской группы "Единства" -- куда приходило до 30 человек. Для них из всех комнат собирались стулья. Для свидания с Плехановым приезжали в Москву какие-то его родственники, в их числе, кажется, один из его братьев. О последних, хотя это было для меня интересно, я остерегался спрашивать Плеханова, чтобы не напомнить ему о склоке, учиненной мною в Женеве в связи с его братом -- бывшим в Моршанске исправником (об этом я писал во "Встречах с Лениным".) Плеханов, в первые же дни, когда стал жить у нас, захотел узнать, какую политическую позицию я занимаю.
-- "Нос" в повести Гоголя ходил по Невскому, ни к кому не прислоняясь. Такое положение мне кажется довольно неестественным и неудобным, а между тем мне сказали, что вы заняли именно положение гоголевского Носа, ни в тех, ни в этих, а сами по себе. Что вас отделяет от меньшевиков? На этот, казалось бы, естественный и простой вопрос я Плеханову не мог ответить со всеми нужными для этого объяснениями. Вот по какой причине. Месяца полтора до этого я был вызван в секретариат московской группы меньшевиков и подвергся "допросу" со стороны Анны Адольфовны Дубро-винской (жены покойного ультра-ленинца Иннокентия) и ее помощницы Розенберг (не нужно смешивать эту глупенькую девицу с ее сестрой -- умной Кларой Борисовной, "Madame Roland", как я ее называл, салон которой в 1905-1906 гг. служил местом встреч людей подполья с писателями, артистами, общественными деятелями всех направлений). Эти две особы, позднее перекочевавшие в большевистский лагерь, меня обвинили в том, что:
В статьях и речах я "сею недоверие к революции".
Настаиваю на необходимости какой-то отзывающейся
реакцией "твердой власти".
3. Держу о сепаратном мире странные речи, "не имеющие общего с циммервальд-кинталовскими установками".
Не буду говорить о моем споре с Дубровинской, скажу только, что я выругался и заявил, что после этого разговора никаких отношений с меньшевиками иметь больше не желаю. Обо всем этом я не мог откровенно сказать Плеханову. Во-первых, потому, что говоря о ком-то (забыл, о ком), Плеханов категорически заявил, что всякое недоверие к революции есть свидетельство о контрреволюционном, т. е. недопустимом настроении человека, это недоверие высказывающего. (Плеханов, однако, забывал, что именно в брюзжании на революцию его обвиняли меньшевики.) Спорить по этому поводу с Плехановым я не хотел и считал бесполезным. Во-вторых, я действительно стоял с конца 1916 г. за сепаратный мир, но об этом Плеханову говорить не мог. Самая мысль о сепаратном мире его приводила в крайнее раздражение. Сепаратный мир он называл "гнуснейшей низостью". Я предпочитал об этом молчать. Зачем моему гостю делать неприятности, давать ему понять, что он живет у человека, способного одобрить "гнуснейшие низости"? Принуждаемый по указанным мотивам к умолчанию, я, разумеется, не мог рассказать Плеханову все детали моего спора с Дубровинской и Розенберг. Сказал что-то туманное, из которого Плеханов заключил, что меня от меньшевиков больше всего отделяет вопрос о "твердой власти".