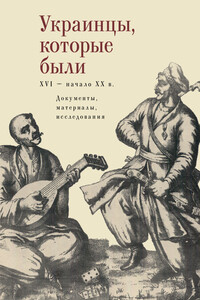Наследники Ленина | страница 112
"Я ведь был деклассированный, -- говорил он мне. -- Был вне общества. Мне труднее, чем неаполитанскому босяку, было усвоить, что такое культура и что по-настоящему переделать социальную жизнь можно лишь при свободе знанием, любовью к работе, страстью к делу. Разрушительные эмоции у меня командовали над разумом. Чувство меры, подчиненное интеллекту, а в нем, в сущности, вся квинтэссенция качественно-высокой европейской мысли, мне было чуждо. Это мешало понять, на чем стоит и чем сильна культура. Мне было трудно стать европейцем, но я не был им, как видите, совсем не по тем соображениям, которыми питался антиевропеизм славянофилов или Достоевского''.
"Чувство меры, подчиненное интеллекту", а об этом, как идеале социальной и психической организации, любил говорить Горький в годы 1914-1916, определяло в его глазах и возможный характер будущей революции, хотя о ней в наших разговорах вопрос почти не ставился. Никто -- и Ленин не исключение -- не думал, что она может быть близкой. Это неясно стало чувствоваться лишь в конце 1916 г., после убийства Распутина. В революции, когда она пришла, Горький ни минуты не видел прелюдии к социалистическому перевороту. Но две вещи страшили его в самом начале революции. Первая, что "при нашей склонности к анархизму мы можем пожрать свободу", и вторая, что буржуазия, в руки которой от самодержавия переходят "развалины государства", может поправеть слишком рано. По этому поводу из-под его пера выскочила однажды следующая фраза: "Несомненно, что буржуазия должна поправеть, но с этим не нужно торопиться, чтобы не повторить мрачной ошибки 1906 г.". Однако в конце марта, очарованный впечатлением от высо
кого подъема духа у сотен тысяч людей, участников грандиозной манифестации в день похорон на Марсовом Поле Петербурга павших в день февральской революции, Горький, отбросив свои опасения, стал оптимистически смотреть на дальнейший ход революции.
"Народ, -- писал он мне в апреле 1917 г., -- показал высокую степень сознательности, он обвенчался со свободой, и этот брак неразрываем". Я не разделял такого оптимизма. Политическая ситуация мне представлялась совсем не в радужном свете, а когда в апреле из-за границы приехал Ленин и обнародовал свои тезисы, у меня сложилось убеждение, что бессильное Временное правительство удержаться не может и Ленин обязательно придет к власти со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом духе я и написал Горькому. Резко расходясь с его настроением, мое письмо, видимо, до того его раздражило, что через день он ответил на него просто грубо. Язвительно высмеивая меня за желание играть роль "некой дамы" Кассандры, кликуши и предсказательницы всяких несчастий", он советовал мне "быть подальше от этой женщины, хотя бы потому, что, по греческой мифологии, она была сумасшедшей и худо окончила свою жизнь". "В ваши, подсказанные Кассандрой, предсказания, -- писал он, -- позвольте не верить". Горький пояснял, что холодная ирония, с которой Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выслушав тезисы Ленина, отнеслись к его анархическим призывам, является лучшим доказательством, насколько повысилась в народе политическая сознательность. Входить в полемику с Горьким и его дальше раздражать я считал совсем не нужным. На письмо его ничего не ответил. Не поднял я этого вопроса и позднее, встретившись с Горьким, а только спросил, виделся ли он с Лениным после того как тот приехал в Петербург. Горький ответил: "Ленина я ни разу не видел и не предполагаю видеть". Горький посетил Ленина только в конце 1918 г., когда Ленин лежал, раненный пулей Каплан. Позднее, в 1924 г., в очерке о Ленине Горький писал: "В 1917-1921 гг. мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы видеть их". Но, многозначительно прибавлял он, "они не могли быть иными". В конце 1921 г. Горький, у которого началось кровохарканье, снова, на семь