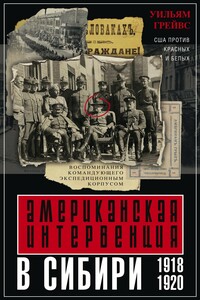Записки терапевта | страница 39
Ещё одним и главнейшим источником знаний были медицинские журналы. Я постоянно выписывала «Терапевтический архив» и «Клиническую медицину, иногда подключая к ним «Советскую медицину», а позже – «Пульмонологию», беспощадно раздирала их на отдельные статьи, а статьи раскладывала по тематическим папкам. В результате у меня накапливался и легко извлекался материал для подготовки к занятиям и различным выступлениям.
Осенью 1986 года мне предложили очередной двухмесячный цикл повышения квалификации (ФПК) в Киеве. Я согласилась без колебаний, хотя многие меня отговаривали, ведь всего несколько месяцев назад недалеко от Киева произошла Чернобыльская катастрофа. Новых знаний я там никаких не получила, но зато увидела город, поразивший своей красотой, грандиозными памятниками, невиданной ранее росписью в соборах, сделанной знаменитыми русскими художниками: Врубелем, Васнецовым, Нестеровым, а также органной музыкой и прекрасными оперными спектаклями. Киев был пронизан осенней грустью, впечатление которой усугубляли жёлтые ссохшиеся и потемневшие листья деревьев, тронутых радиацией. Ничто в жизни самого города, кроме деревьев, не говорило о радиационной опасности, и мы покупали и ели огромные, вкуснющие яблоки, продававшиеся на каждом углу. Только перед самым отъездом в руки попала листовка, распространявшаяся среди некоторых слоёв населения, где рекомендовалось, если и есть яблоки, то срезать кожицу на 1 см и выбрасывать сердцевину, а молочные продукты местного производства не покупать совсем.
В городе звучала, в основном, русская речь, спектакли в театрах тоже шли на русском языке. И лишь один раз, на терапевтическом обществе, когда председатель, известный нефролог, говорил по-украински до тех пор, пока не получил записку с просьбой перейти на русский язык, зная, что большую часть аудитории составляли русские слушатели ФПК, мы почувствовали неприязнь к «москалям».
В 80-е годы я с увлечением отдавалась любимой работе, с опытом пришла уверенность, и теперь я могла провести клинический разбор любого больного без предварительной подготовки. Я уже не вела отдельную палату больных, а курировала половину пульмонологического отделения, консультируя каждого пациента и обсуждая их со студентами 6 курса, субординаторами, участвовала в консилиумах, профессорских обходах, выступала на предсекционных разборах и патологоанатомических конференциях.
Туберкулёз, рак, саркоидоз
Рассказывая о пульмонологических больных, я до сих пор не затрагивала проблему дифференциальной диагностики пневмоний, туберкулёза и рака лёгкого, тогда как на практике это приходилось делать часто. Конечно, типичные случаи очагового, инфильтративного или кавернозного туберкулёза в пульмонологическое отделение не попадали, но в сомнительных ситуациях больных на 10–12 дней госпитализировали к нам для проведения терапии ex juvantibus (лечение, по результатам которого можно судить о диагнозе – лат.)c последующим рентгенологическим контролем. Если вдруг за это время в мокроте выявлялись микобактерии туберкулеза (тогда использовался термин ВК), судьба больного определялась раньше. Но были и случаи, когда диагноз туберкулёза ставился фактически уже на последнем этапе. Это было редко, но два таких ярких примера я приведу.