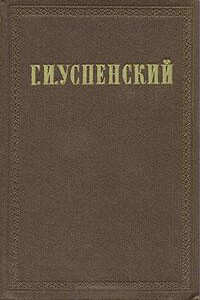Неизлечимый | страница 25
И так мне было неприятно. Главное, что внезапно случилось.
Шел себе человек так, просто попить чаю, например, и вдруг ему этак... чуть не "вор"! Поплелся я от нее в этаком расстроенном положении: и так, будто стыдно, и сердишься. В очень скверном был я от этого визита состоянии. Но как только рассказал я отцу Ивану, так все и прошло - и не стыдно ничего, и опять очень весело. Отец Иван сразу разобрал это дело так: во-первых, все это - не более как штука. Денег она брать не будет, положим, - бывали такие примеры, но это только подвох, чтобы быть на виду, потом забрать в руку что-нибудь почище, выскочить в прогимназию и уж там зацапывать сколько хватит. Во-вторых, это - земство делает контру начальству; посредник Гамлетов сам будет платить учительнице, чтобы она отказывалась от жалованья, чтобы тем пробраться... И тут отец Иван сплел удивительный, тонкий, как кружево, план, по которому посредник, по его мнению, должен был путем разных штук пробираться к чему-то такому, где можно зацапывать сколько влезет. Наконец, уж, ей-ей, не могу вам теперь рассказать, как, на каком основании, только все мы - я, отец Иван, жена отца Ивана и моя жена, - все мы поняли и решили, что учительница - просто любовница мирового посредника.
Почему? Да потому, что из-за чего же ему платить ей свои деньги? Из-за чего же ей отказываться от своего жалованья, если у ней с посредником нет стачки, помощью которой он и она вытаскивают друг друга к каким-то выгодным местам.
Так тонко плутуют только преданные любовницы. На этом мы и порешили. Нам необходимо было порешить на чем-нибудь таком, от чего бы нам было по-прежнему покойно. Непременно нам хотелось и на душе и на желудке сохранить то же благополучие и ту же ясность, что была у нас всегда, и нам надо было придумать что-нибудь, чтобы неприятный факт был подлажен под наши взгляды. Подладили мы его, как сами видите, очень топорно; но для нас было и это хорошо. Правда, в ту же ночь, когда мне случалось проснуться, мне, несмотря на составленную нами насчет госпожи Абрикосовой теорию, становилось как-то неловко. Точно сон какой-то дурной видел.
Припоминалась она мне в ту минуту, когда, позеленев от гнева, сказала: "да это - грабеж..." Припоминался ее горький вопрос: "да неужели вы хватаете кур?" - и другой вопрос: "да точно ли вы в самом деле дело делаете? точно ли, мол, вам надо платить?.." Становилось мне от этого как-то очень и очень тоскливо, тяжело, как будто что-то мелькало в глубине совести, что-то начинало чуть-чуть светиться там, едва обрисовывая какие-то неопределенные, безобразные фигуры. Я торопился улечься опять в постель под горячий, неподвижный, как каменная стена, бок жены и, чтобы успокоиться, задавал себе вопрос: из-за чего же она-то! И так как вопроса этого я не мог, положительно не мог, разрешить чем-нибудь, кроме выгоды, то и возражения госпожи Абрикосовой на мои мнения о понуждении мужиков, и ее гнев за курицу, и бескорыстие казались мне не более, как штуками. Если это - не штуки, думал я, так из-за чего же бьется она с утра до ночи с мальчишками и девчонками, из-за чего она не требует себе хорошего помещения, а зябнет в каком-то хлеву; из-за чего не берет жалованья?..