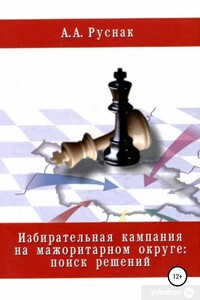О выделенном мышлении и до-мышлении. Опыт странного мышления. Часть III | страница 23
Конечно же, обладающие научным мышлением могут с презрением относиться к другому мышлению, но на вопрос о том, «зачем они обладают таким мышлением», у них нет ответа. Соответственно, те другие, это те, кто может думать над любым таким и другим «зачем» и не только «зачем», но и любым «основанием» и не только «основанием». Но любое такое затем после перехода через край небытия станет очередным аристотелизмом. И такой способ «общения с основаниями», их последующая «конкретизация в границах какой-то теории», а точнее, в онтологике, которая на самом деле не может выйти за границы человеческого мышления, – это какое-то проклятие или оковы, наложенные на человеческий разум, которые не позволяют видеть-останавливать происходящее иным образом.
Любое выделенное мышление может игнорировать «разговор об основаниях», и любое выделенное мышление может существовать без разговора об основаниях. Оно может существовать само по себе; так, например, квантовой механике все равно, что есть учение о начале Вселенной или о грамматике языка, а последней все равно, что думает о таком математик. При этом любое выделенное мышление может изображать из себя какой-то разговор об основаниях или утверждать, что оно является каким-то сильным разговором об основаниях. И таких учений достаточно… И любое учение, утверждающее, что оно есть последний разговор об основаниях – это какое-то бесполезное псевдо-учение или по-другому – это какая-то негативная, но обязательно положительная метафизика.
Позитивистская фальсификация знаний о субъекте
Всеобщая позитивистская наука о субъекте, о его присутствии, о происходящем с ним, о том, как он взаимодействует с происходящим – это иногда какое-то слабоумие, некая имитация научности, манифестация какой-то знательности. И такую «науку о субъекте» иногда считают только искусством, то есть чем-то особо выдуманным, относя при этом к действительной науке только нечто особое, некую традицию экспериментального научного мышления о естественных явлениях.
Например, как можно понять такие словосочетания, как «функции менеджмента» или «признаки менеджмента», «характеристику власти», «предмет социологии», «теорию государства», «доктрины права», «основные характеристики общества»34?
Дело в том, что онтологический статус таких объектов, как «власть», «менеджмент», «социум», «управление», «право», «экономика», имеет особое онтологическое определение. Допустим, «стол» как мысль, а затем какая-то видимость в качестве действительно определенного предмета может предположительно обладать неким функционалом для меня. И рассматривая его (стол) (в мышлении), можно замечать у такого предмета некие признаки, некие характеристики (основные и любые другие) и другое