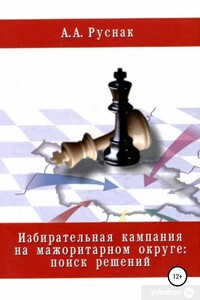О выделенном мышлении и до-мышлении. Опыт странного мышления. Часть III | страница 17
Научное мышление тоже имеет свои границы, оно замкнуто на себе, оно – это выделенное упрощение, и оно не может выйти за рамки своих методов-возможностей упрощений. Такое мышление игнорирует все остальное, что выходит за пределы его понимания, и с недоверием к нему относится. Конечно, же позитивистски настроенный читатель сразу же может в такое ненаучное вставить какую-то примитивную эзотерику, но все проще и при этом сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Допустим, что же такое научное мышление может сказать о моем прошлом, о том, что со мной было, где оно сейчас? Мое присутствие «было или есть» или это только моя память? Или все сложнее? Возможно, что-то из Пруста? А что такое мышление может сказать о всяких ненаблюдаемых онтологических объектах, из которых на 300 % состоит язык и само явленное мышление? А что такое мышление может сказать о том, почему все это существует, все то, что мы видим и не видим? Почему (для чего) мы существуем? Тут могут быть какие-то слабые ответы, но в основном ответ будет такой, что все такие мысли несущественны либо сводятся к каким-то вывихам, но так ли это? Если те, кто был до меня, те, кто шел, те, кто переносил разное, они, оказывается, «шли просто так», и «их всех нет в действительном значении», то есть возможно «никогда не было на самом деле», и это «только моя память», то тогда – это конец всему этому, это какое-то завершение тех, кто скажет, «что все действительно так и есть». Тогда они… не будут продолжать… И если какой-то «ученый», оценив такое, после скажет, «что да, человек без «зачем», конечно же, тронется умом – это факт, а значит, для него нужно выделить какое-то «слабое зачем»23, и пусть он… как-то шевелится…», но такой ученый – тоже часть завершения…
Слабоумие научного мышления и вопрос «зачем»
Конечно же, экспериментальное теоретическое научное мышление (спецслужбисткое, политическое, деловое, экономическое, флотоводческое…), зная свою специфическую силу, берет свои достижения и спрашивает другое мышление: «А что можешь ты?». Но почему-то такое мышление, несмотря на всю свою якобы силу, через время оказывается слабоумным, свихнувшимся, безосновательным. Такое мышление, вообразившее свое всесилие, в такой момент оказывается перед каким-то крахом, крахом, как считал Ницше последователей Аполлона, тех, кто решает, что их какое-то «очередное мышление» – это сам мир. Но оказывается, что теории и системы – это только нечто выдуманное, какие-то каракули о реальности. Если эти каракули и позволяют создать нечто грандиозное, то все же это не более чем это…