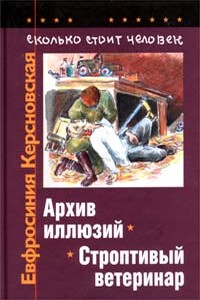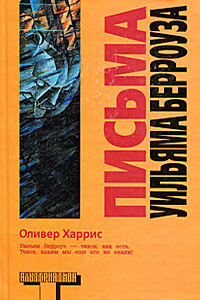Джордж Гордон Байрон | страница 24
"Манфред" вызвал широкий резонанс во всем мире. Английская критика усмотрела прямую связь произведения Байрона с "Фаустом" Марло, а Гете в своей статье о "Манфреде" писал, что Байрон извлек из его "Фауста" "особенную пищу": "Он использовал мотивы моей трагедии, отвечающие его целям, своеобычно преобразив каждый из них; и именно поэтому я не могу достаточно надивиться его таланту" {И.-В. Гете. Собр. соч. в 10-ти томах, М., "Художественная литература", 1980, т. X, с. 329.}.
Байрон же решительно отрицал связь "Манфреда" с "Фаустом" Марло и "Фаустом" Гете. Он признавал лишь влияние "Прометея" Эсхила. "Я никогда не читал и, кажется, не видел "Фауста" Марло... но я слышал, в устном переводе мистера Льюиса, несколько сцен из "Фауста" Гете (в том числе и хорошие и плохие) - и это все, что мне известно из истории этого волшебника... - так писал Байрон в письме своему издателю; - Эсхиловым "Прометеем" я в мальчишеские годы глубоко восхищался... "Прометей" всегда так занимал мои мысли, что мне легко представить себе его влияние на все что я написал..." {Дневники. Письма, сс. 152-153.}.
"Манфред" был первым опытом Байрона в драматургии, поэтому, признавая влияние трагедии Эсхила "Прометей Прикованный", Байрон, видимо, имел в виду и решение в "Манфреде" чисто драматургических задач по образцу этой античной трагедии. Однако в своей драматической поэме Байрон создал совершенно иной тип драмы - романтической, в которой все подчинено раскрытию эмоционального и духовного мира личности главного героя. Поэтому поэма являет собой как бы развернутый внутренний монолог Манфреда.
"Манфред" написан пятистопным белым стихом, характерным для английской классической драматургии. Но однообразие белого стиха перебивается различными включениями: хором духов, лирическими песнями, заклинанием, которые написаны другими поэтическими размерами.
В Швейцарии Байрон продолжает и работу над "Чайльд-Гарольдом". Закончив третью песнь поэмы, он передал ее Шелли, который в июле 1816 года уезжал в Англию. В ноябре того же года издатель Байрона опубликовал ее.
Песнь начинается и завершается обращением поэта к своей дочери Аде. Здесь и страдание отца, которому не суждено принять участие в воспитании дочери; и надежда, что окружающие Аду люди не смогут внушить ей ненависть к отцу и она будет его любить; и предчувствие, что он никогда не увидит свою дочь. Ада Байрон, впоследствии леди Ловлейс, выдающийся математик, действительно любила отца и завещала похоронить себя рядом с ним.