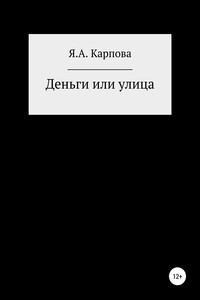Современность | страница 14
– Мы то, что мы творим и как думаем; мы – воплощение своих мыслей, но под углом зрения других, незнакомых нам людей, заинтересованных в разговорах с нами, часами напролет слушающие как будто бы бесконечно умные и страстные речи, на самом же деле являющиеся таковыми только потому, что они не лишены смысла.
Нам дано так много теперь, но также много оставлено без внимания. Нам суждено жить и любить так быстро и так смело; но под напором бесконечно долгой индифферентности к мелочам, нам кажется, что все еще успеется и, конечно, не сейчас. Нам суждено лишь напоследок полакомиться сущностью вещей, навсегда теряясь в вариациях возможностей, в сущности, ничего не значащих… Как странно, что все зная и все имея у себя в голове – миллионы смыслов и толков, объяснений и понятий, – нам неподвластно на самом деле оценить богатство души и сакральных, интимных помыслов, сидящих в нас. Нам предначертано было развиваться, и в этом развитии видеть смысл своих деяний, но вместо сумеречных надежд на необратимость вечной цикличности нам, очевидно, суждено теперь не обращать внимания ни на что, кроме самих себя… Нам не суждено теперь жить мечтами, которые настолько невероятны, что попросту несбыточны – нам просто теперь не к чему стремиться, имея под рукой все необходимое, все, что требуется для исполнения прихотей и желаний… нам не к чему идти…
И человек, потерявший, кажется, все, потерявший бесценное время своей жизни, – он обрел намного больше, чем потерял: он обрел знание, которое не дано понять «небожителям», которое не понять людям, за своей вечной занятостью забывших настоящую ценность времени…
– Мы то, что мы творим и как мы думаем. Мы то, как мы ценим мгновения бесцельно прожитой жизни, но главное – части ее осмысленной…
Покидая мужчину, забитого в уголок и ни при каких условиях не желавшего этот уголок оставлять, – уходя из этого места, наверное, навсегда, шагая маленькими шажками по истрепанному и истертому полу, мне казалось, что в каждом из этих мгновений есть свой смысл, особый, никому, кроме меня, неведомый, недоступный. А сейчас, сейчас мне хотелось снова попасть в привычную для меня атмосферу спокойствия и защищенности, где бы я мог обдумать все услышанное и увиденное за последнее время.
Проходя мимо открытых дверей я мельком заглядывался на никудышную обстановку и совсем несочетающиеся между собой вещи интерьера, но теперь мне казалось, что и в этом есть особый смысл, что и в этом безвкусном нагромождении предметов есть что-то, что не поддается человеческой способности чувствовать, но на самом же деле все-таки является определенным искусством, определенной частью человеческой культуры, разрозненной в какофонии безликих симфоний давно уже погрязших в эпигонстве современников. Максимализм этой идеи, нетипичной идеи в стремлении быть уникальными, – он заключался как раз в том, что весь этот хлам не нес собой никакой ценности как вместе, так и по отдельности, – он просто был, и это надо было принять как данное; и смиряясь с этим, можно понять, что не обязательно все должно быть хоть как-то охарактеризовано, как-то осмыслено или объяснено, – все становилось очень простым и, чему не принято следовать в наше время, нелогичным: весь мир заключался в обычном хламе, нагромождённым среди комнаты, как будто бы одновременно портившим ее, но в то же время создающим в ее пределах свою ноосферу – область человеческой жизни, которая не является ничем, кроме хлама. Все это значило для этих людей, очевидно, не больше, чем для меня. Но в само́м воплощении каждодневной мысли о столь отвратительном, обычном, как о чем-то банальном и пустяковом, что даже не стоит этого замечать, – в этом они были прекрасны, в этом они превзошли логику и четкость мышления. Они в трезвом рассудке видели и мечтали, – о, конечно, мечтали, я уверен, что они могли мечтать именно из-за своей узколобости и недальновидности, – они мечтали о столь великом и грандиозном, о чем не мог и помыслить любой из нас даже в наркотическом бреду.