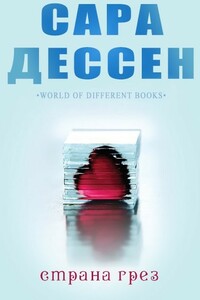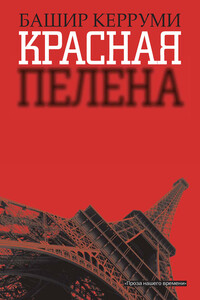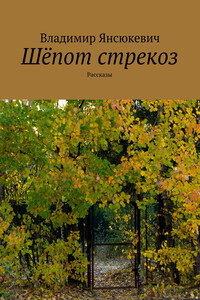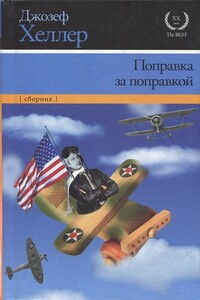Белая книга детства | страница 14
– Не могу тебя называть тетей!
– Почему?
– У меня язык не поворачивается!..
В деревне у меня были настоящие игрушки, две куклы – София и Ольга, и еще кукла Алеша и белый медведь с набитой соломой жесткой башкой. А потом появился мой собственный Чебурашка! У куклы Софии (София Ротару) была фарфоровая голова и руки. Темная коса и красивый шелковый красный сарафан, вышитый жемчугом на передней вставке. Куклу эту старинную я получала для игры редко и относилась к ней очень бережно. И все равно со временем фарфоровая головка ее треснула под волосами, уж и не помню, я ли была тому причиной. Кукла Оля с резиновой головой, руками, ногами и пластмассовым туловищем, была кудрявая, в белых ползунках на кнопках и синем трикотажном платьице. Кто-то из предшественников намалевал на руках и щеке куклы ручкой, и чернила въелись навсегда. Но я относилась к своим игрушкам очень трепетно. Была еще кукла Алеша в красном клетчатом комбинезоне и такой же беретке над огненно-рыжими кудрями. Про нее мы с крестной пели песню «Стоит под горою Алеша…»
Тема войны так или иначе присутствовала в доме, поскольку папа Сеня, 1927 года рождения, воевал в финскую матросом на крейсере «Калинин», а в Великую Отечественную дошел до Берлина. У него было много орденов, медалей и орденских планок. Хранились они в шкатулочке, и мне давали ими поиграть. Как-то, будучи подростком, Коля обменял часть отцовских наград на марки, и не все из них удалось восстановить. И все же их оставалось много. Вспоминать о войне папа Сеня не любил. Он только рассказывал, как их в Польше учили танцевать, и начинал танцевать с нами «Под испанец», это было очень весело. В рамке хранилась наградная грамота матросу за подписью Калинина. Даже и не знаю, обычное ли это было дело. С годами грамоту убрали со стены, осталась только рамка с крейсером внизу, собственноручно Семеном Павловичем отлитая, поскольку работать на сахзаводе он начал как раз в литейном цеху.
В «Литейку» папа Сеня меня брал с собой – мне показывали «опоки», и позволяли прыгать на кучу песка – так я сеюе один раз нос расквасила. Обедали литейщики прямо там, в цеху, на газете. И я помню «Кильку в томатном соусе» – после того, как напрыгаешься, упадешь и наревешься, все кажется божественно вкусным!
А завод был такой огромный для меня маленькой, и столько впечатлений! На углу водонапорная башня, деревянная, напоминающая старинный замок. Дальше пролом в кирпичной стене и производственные цеха, здесь же была и «литейка». А потом, если двигаться по улице Рабочей – центральная проходная Перелешинского сахарного завода. Туда меня водили уже школьницей, и все-все показали. Начиная с цеха отжима, где в огромной центрифуге перетиралась сахарная свекла, далее цех очистки: вот в этом барабане крутится желтый сахар, а в следующем уже ослепительно белый, как снег! Тут мне зачерпнули сладкого «снега» в оловянную кружку. И посмотрев, как делают рафинад, я возвращалась домой с кулечком сверкающей сладости и полным карманом фантиков от сахара «К чаю», который подают в самолетах и ресторанах.