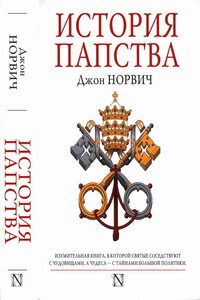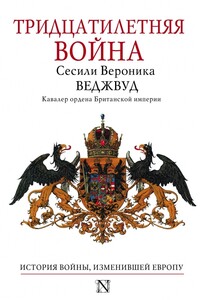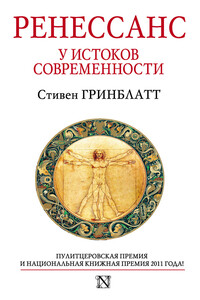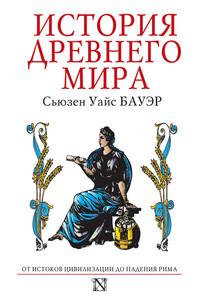Властелины моря. История золотого века греческого флота | страница 7
Вопреки распространенному заблуждению гребцы на этих боевых судах вовсе не были рабами, прикованными к веслам цепями. Начало этой популярной легенде положил в своем романе «Бен Гур» Лью Уоллес, а новое дыхание она получила с публикацией «Самого замечательного в мире рассказа» Редьярда Киплинга, в центре которого стоит галерный раб древности, возродившийся в облике лондонского клерка. Ну и уж едва ли не бессмертие обрел этот миф в тысячах карикатур. Подобно рогам на шлемах викингов, это заблуждение в какой-то момент зажило собственной жизнью. Иное дело, что образ изможденного полуобнаженного галерного раба возник не в античной Греции, но в средневековой и ренессансной Европе, а точнее — в моряцкой среде арабов и турок времен Оттоманской империи. Ведя родословную «битников» от рабского труда античных гребцов, Джек Керуак в своем романе «Ангелы тоски» поэтически убедителен, но историческую правду он нарушает:
«Ритм везде. Ритм. Все, что нужно выдерживать, это ритм. Ритм сердцебиения. Это как ритм, в котором покачивается мир и какой в древних цивилизациях выдерживали гребцы-невольники на галерах».
Точно так же мало чего общего имеет опыт афинских моряков с корабельной жизнью, известной современным читателям по картине британского флота, воспроизведенной то ли в документально-исторической (Горацио Нельсон), то ли в художественной (Хорнблауэр, Обри, Мэтьюрин) форме. Уинстон Черчилль якобы заметил как-то, что английский флот со всеми его традициями — это «не что иное, как ром, содомия и бич». Что касается последнего, то афинские гребцы немедленно выбросили бы за борт любого офицера, взявшегося за плетку. Триера отнюдь не представляла собой тигль, в котором кипела взаимная ненависть высокомерных командиров и недовольной команды. Силой сюда никто никого не загонял, а бунт был событием исключительным.
Когда народное собрание призывало афинян к новым морским сражениям, гребцы были свободными людьми, более того, в большинстве своем гражданами. Они гордились флотом и ценили предлагаемые им возможности получать постоянное жалованье и добиваться политического равноправия. В пору критических испытаний все свободные афиняне мужского пола, достигшие совершеннолетия — богатые и бедные, граждане и не-граждане, знать (всадники) и простые ремесленники, — поднимались на борт триер и брались за весла во имя спасения родного города. Однажды, когда положение сделалось по-настоящему отчаянным — главные морские силы оказались заперты в отдаленной бухте, афиняне дали свободу тысячам рабов и сформировали новые команды, бросившиеся на выручку тем, кто попал в беду. После этого всем бывшим рабам было дано гражданство.