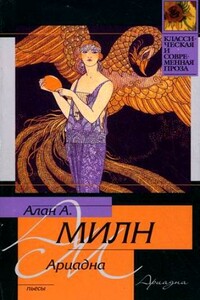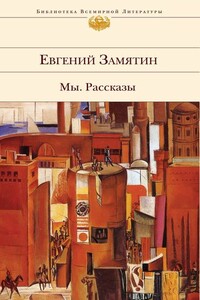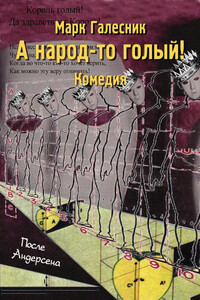Фарсы | страница 8
Права на уважение требовал и бурлеск. Он, подобно репетиции и балладной опере, был связан с литературной и театральной пародией, а значит, принадлежал к достаточно почтенному кругу. Сам по себе термин был не очень ясен. Филдинг, например, считал «бурлеск» словом вообще нетеатральным и определял им литературную параллель сценическому фарсу. В жизни закрепилось, однако, иное словоупотребление. Бурлеском стали называть фарс на литературную или театральную тему, фарс-пародию, причем самым знаменитымбурлеском оказался «Мальчик с пальчик» того же Филдинга (1731) (полное заглавие: «Трагедия трагедий, или Жизнь и смерть Мальчика с пальчик Великого»). На добрую треть он был составлен из цитат из чужих трагедий, вызывавших, однако, совсем не тот эффект, на который рассчитывали их авторы.
И еще оставался фарс. Он был полнейшим парвеню. У других были знатные родственники. У него — никаких. Если он и потерся в хороших домах, то, как выяснилось, не по праву, и его оттуда с позором выставили. У других были связи с культурой. У него и этого не было. В театральной людской другие драли перед ним нос он же был на побегушках. Да и в театральном зале он прислуживал тем, кто попроще. Бурлеск был для партера и лож — для тех, кто способен оценить литературные и театральные параллели. Он — для галерки.
В этом своем качестве он тоже не остался без соперников. В лондонских театрах в эти годы необычайно укрепилась пантомима, нередко замещавшая фарс в качестве «дополнительного представления». Случилось так, что она лишила его одного из иностранных источников. Ситуации и маски комедии дель арте стали ее исключительным достоянием. Фарсу здесь удавалось поживиться очень немногим.
Как нетрудно заметить, ему если когда и везло, так только наполовину. Подъем малых жанров помог фарсу наконец-то приобрести самостоятельность и зваться собственным именем. Но этот подъем был так велик, жанров возникло столько, что его сразу же оттеснили на обочину. Столбовая дорога предназначалась для тех, кто покультурнее. Эпоха Просвещения не испытывала пристрастия к бездумному веселью.
Была и еще одна причина, мешавшая фарсу. Просветители боролись за живое искусство. Оно было для них средством исследования жизни. С его помощью они открывали новые, не запечатленные еще в писанном и произнесенном слове людские типы и формы человеческих отношений. Фарс же был наглядным отрицанием типического. Конечно, в свое время он тоже послужил типизации. Он возник не на пустом месте, и за каждым его образом стояла своя «натура». Но мера типизации оказалась излишне велика. Типическое возможно только на фоне индивидуального, а здесь индивидуальное уже просто исчезало. Персонажу фарса «неотчего подниматься к типу», он задан заранее. В крайности своих проявлений он неподражаем, недостижим, а значит, если взглянуть на дело с иной стороны, и невозможен. «Единственный в своем роде» — это отнюдь не «типичный». Напротив, его антипод. Фарс «масочен», даже когда его персонажи не носят масок. Просветители же мечтали видеть на сцене живые человеческие лица. Достаточно типичные, разумеется, но живые.