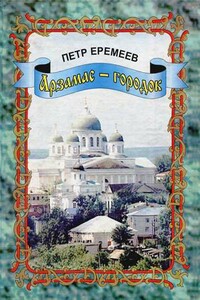Чулымские повести | страница 52
Подпирало, наружу рвалось зло Кузьмы Андреевича. Куда хватила, пакость! К суеверным его причислила. Заюлила, как черт на колу завертелась, когда о Марфе понесла околесную…
Секачев, однако, и на этот раз сдержался. Только и выдавил из себя:
— Ты не крути веревки, ты прямо скажи — отведешь от Марфы затмение или нет?!
Федосья подняла тяжелые веки, в черных провалах под широкими бровями блеснули ее глаза усталые, печальные. Кузьма Андреевич опять увидел в Лешачихе то понятное ему, бабье, и тоскливо упали в тишину дома его просительные слова:
— Отпусти от себя Анну. Одна утешеньем осталась…
И опять уклонилась, не отозвалась на вопрос Федосья.
— Правду скажу, Кузьма Андреевич. Дочь твоя давно мне приглянулась за добрый постав души. Кабы иной какой случай, не стала бы я ее открывать перед тобой, да ты на меня вона с каким напором… Знай, Анна первая показала, что люб ей мой парень. Знать, на ево долю она произросла. Не думай, не укоряю девку. Сердце молодое не жар печной — заслонкой не сдержишь. Могу и то сказать, что Алешка хоть завтра женится. Ты, Кузьма Андреевич, то поимей в виду. Сын у меня — все знают, не из бросовых. И собой взял, и поведеньем, и в работе он не отлыня. Конешно, на образа не крестится… Что ж, пришел из армии, я уж его не неволила. Не раз думала… Теперь другие колокола льют, а звонарем на них Шатров-большак. Это его звоны нас с тобой к земле клонят и разметают…
Слушал Секачев, но переводил-то все на свое, семейное. Это что же творится у него за спиной?! Да у них сговор, Анна-то уж полностью в чужих руках… Ну, погоди, дочь отецкая!
Клокотало зло, губы под жесткой щетиной усов сушило. Едва разжал их, прохрипел:
— Доберусь…
Прыгал, открытой издевкой подкатился к порогу короткий смешок Федосьи.
— Давай, мордуй девку… Только не выйдет по-твоему, Кузьма. Помяни мое слово, не выйдет!
Ярость сбросила Кузьму Андреевича с табурета, никогда еще не терпел он такого насмешества, такого поношения. Срываясь на крик, ринулся к столу.
— Языком ботвишь… Не мори душу, выправь Марфу, честью прошу!!!
— И рада бы, да не в силах я, Кузьма.
— Не хошь…
— Не могу!
Грохнул об стол натекший дикой тяжестью мосластый кулак, испуганно замигала лампа, кинулись под лавку моток ниток и звонкие вязальные спицы.
— Погиблая твоя душа…
Страшный, ослепленный яростью, Секачев бы ударил. Ударил уже бы потому только, что увидел перекошенное от ужаса лицо Федосьи, увидел, как раскинув руки, она черной растрепанной птицей метнулась к двери.