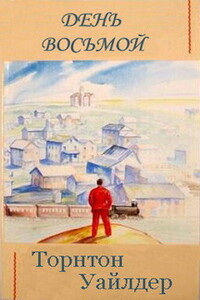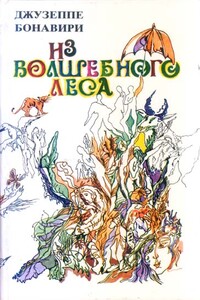Мартовские иды | страница 70
Это письмо, как и все письма, написано совершенно зря. Однако я хочу сообщить вот еще что: в последний день сентября мы с братом устраиваем званый обед – надеюсь, ты придешь. Я пригласила диктатора с женой (кстати, говорят, что ты одарил нас еще несколькими эпиграммами; почему бы тебе не признать, что ты ничего не смыслишь в политике и не интересуешься ею? Что за удовольствие разражаться непристойными звуками за спиной у великого человека?). Я пригласила также его тетку, Цицерона и Азиния Поллиона.
Восьмого я двинусь на север. Захвачу с собой нескольких друзей, в том числе Мелу и Вера. Какое-то время мы погостим в Кануе у Квинта Лентула Спинтера и Кассии. Может, ты присоединишься к нам девятого, а через два-три дня мы вместе вернемся в город.
Если ты решишь приехать в Каную, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду коротать с тобой бессонницу. Прошу тебя наконец понять, что такое дружба, оценить ее преимущества и не выходить за ее границы. Она не предъявляет претензий, не дает права собственности, не порождает соперничества. У меня большие планы на будущий год. Буду жить совсем не так, как в минувший. Обед, на который я тебя приглашаю, даст тебе об этом представление.
(Запись сделана позже)
«Разве тебя не поражает, – спросил я, – что Катулл пускает это стихотворение по рукам? Не могу припомнить, чтобы так, без утайки, открывали свое сердце». "Тут все поражает, – ответил Цицерон, вздернув брови и понизив голос, словно нас могли подслушать. – Ты заметил, что он постоянно ведет диалог с самим собой? Чей же это второй голос, который так часто к нему обращается, голос, требующий, чтобы он «терпел» и «крепился»? Его поэтический гений? Его второе "я"? Ах, друг мой, я противился этим стихам сколько мог. В них есть что-то непристойное. Либо это непереваренный жизненный опыт, не до конца преображенный в поэзию, либо он чувствует как-то по-новому. Говорят, его бабушка с севера: может, это первые порывы ветра, подувшие на нашу литературу с Альп. Стихи не римские. Читая их, римлянин не знает, куда девать глаза, римлянин краснеет от стыда. Но они и не греческие. Поэты и раньше рассказывали о своих страданиях, но их страдания были уже наполовину залечены поэзией. А в этих! – тут нет утоления печали. Этот человек не боится признать, что страдает. Быть может, потому, что делится этим страданием с собственным гением. Но что это за второе "я"? У тебя оно есть? У меня оно есть?"