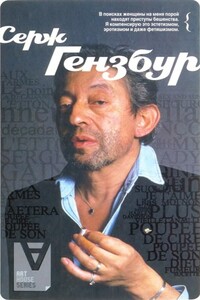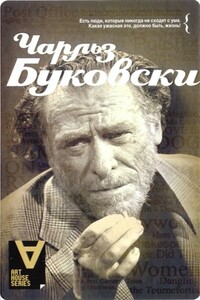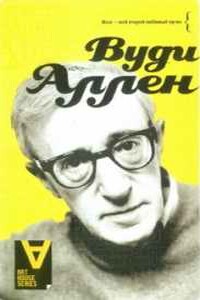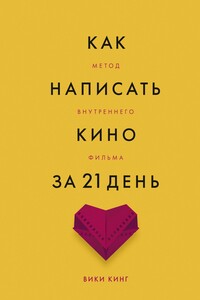Терри Гиллиам: Интервью: Беседы с Йеном Кристи | страница 2
Типичные упреки в визуальной избыточности, дурновкусии и слабости повествования коренятся в приверженности к реализму, который и по сей день многие считают истинным призванием кинематографа. Но Гиллиам никакой не реалист: на самом деле он один из немногих работающих сегодня режиссеров, имеющих полное право претендовать на родство с основоположником киномагии Жоржем Мельесом[1]. Однако в каком-то смысле это лишь отодвигает проблему в прошлое, поскольку, несмотря на все словоизлияния в адрес Мельеса, его тщательно продуманные и откровенно постановочные зрелища часто расцениваются как «некинематографические». Звезда самого Мельеса закатилась в 1913 году — в основном потому, что ему не удалось приспособиться к новой реалистической мелодраме Гриффита и Де Милля, которая смела все на своем пути и вскоре привела за собой эру больших звезд и продвигавших их фильмов.
Шестьдесят лет спустя Терри Гиллиам понял, что потерял желание снимать комедийные скетчи в духе «Пайтона», однако у него не было и желания подхватывать новые формы реалистической мелодрамы семидесятых. Единственное, что оставалось делать, — создать соответствующую его потребностям и талантам новую форму, основные черты которой обозначились в средневековом бурлеске «Бармаглот»[2].
Это подводит к вопросу, который усугубил путаницу в критических оценках творчества Гиллиама, — вопросу о жанре. Если в «Монти Пайтоне и Священном Граале» и «Житии Брайана по Монти Пайтону» можно с легкостью обнаружить неожиданный, при всем его непостоянстве, интерес к исторической достоверности (в них определенно больше от Бергмана, чем от «Так держать»[3]), то к какому жанру принадлежат самые личные и наиболее страстные фильмы Гиллиама? Населенные подельниками из «Монти Пайтона» и «настоящими» актерами, «Бандиты времени», «Бразилия» и «Мюнхгаузен» сочетают в себе элементы студенческого капустника с обращением к мифопоэтическому, которое в другой ситуации воспринималось бы совершенно серьезно. Однако серьезность тона присутствует здесь редко: эти фильмы грязны, сюрреалистичны, символичны и зачастую глупы. Но во вселенной Гиллиама глупость не является уничижительной характеристикой: она отсылает к традиции шуточной бессмыслицы, идущей от Диснея, Кэрролла, Гофмана и, собственно говоря, Шекспира.
Равным образом его более поздние фильмы — «Король-рыбак», «Двенадцать обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», при всей их кажущейся укорененности в узнаваемом современном мире, порой закладывают опасный вираж и устремляются в сторону сверхъестественного или фантастического. Но стоит ли воспринимать это как неспособность Гиллиама найти для фильма единое художественное решение, как неспособность устоять перед соблазнами излишества и карикатуры? Или эти творения принадлежат специфически гиллиамовскому миру — в том же смысле, в каком мы говорим о «кэрролловском» мире или «кафкианской» реальности? К миру, замешанному на абсурде и трагедии, в котором мечтателям типа Сэма Лоури