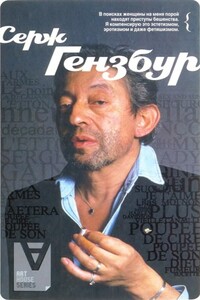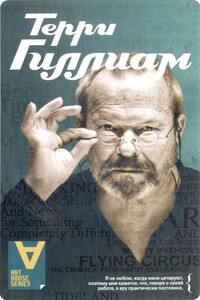Чарльз Буковски: Интервью: Солнце, вот он я / Сост. Д. С. Калонн | страница 118
Стало быть, иногда вы своими работами всех нас дурачите. Вы это хотите сказать?
Иногда я и самого себя дурачу. А иногда мою писанину отвергают, говорят: «Никуда не годится, Буковски!» И они правы: я пишу много дерьма. Я почти намеренно пишу его так много, чтобы не останавливаться, и в основном там все нехорошо, но я так упражняюсь. Только хорошего тоже много. Я бы сказал, семьдесят пять процентов того, что я пишу, — хорошо; сорок — сорок пять процентов — отлично; десять процентов — бессмертно; а двадцать пять процентов — говно. Складывается в сто?
Вернемся к политике. Хоть вы и утверждаете, будто аполитичны, некоторые усматривают в ваших работах политические темы.
Они кардинально ошибаются. У меня нет политической мотивации. Я не хочу спасать мир, не хочу делать его лучше. Я просто хочу в нем жить и говорить о том, что происходит. Я не хочу, чтобы спасали китов, разрушали и убирали атомные станции. Что бы в мире ни было, я остаюсь с ним. Я могу сказать, что мне это не нравится, но я не хочу это менять. Я очень себялюбивый. По большей части мне не нравится, например... Ну вот еду я на машине по трассе, и у меня спускает колесо, и нужно вылезать и менять эту херотень. Надо перестраиваться, а справа полосы нет, а мне на бега надо. Видите, у меня нет глубоких чувств, никакого глубинного движения нет во мне. Никакого желания вообще. Мне хочется просто чистить зубы и надеяться, что не выпадут; я надеюсь, у меня и на следующий год будет вставать, — вот такие простые мелочи. Крупного я не ищу. Я буду доволен и мелочами вроде победителя в третьем заезде при ставке три к одному. Больше ничего и не надо. Ничего волшебного — я не хочу выходить за собственные рамки.
Вы действительно столько лет проработали на почте?
О да! Одиннадцать с половиной лет в ночную смену и два с половиной года в дневную. Я никак не мог спать по ночам, поэтому делал вид, что это какая-то нескончаемая вечеринка. Писать я садился под вечер. Приходил уже пьяный, а эти идиоты даже не понимали, пьян я или нет. А мой друг Спенсер заявлялся вштыренный по самые брови, и мы там отпадали полностью. Я говорил Спенсеру: «Я отсюда выберусь! Я умею ставить на лошадок!» И вот прошло пятнадцать лет — и мы с ним встретились на скачках. На главной трибуне — его выкрутило и выжало, больной весь, принял мой «БМВ» за «мерседес-бенц» и решил, что это я на скачках так поднялся. Потом звонит мне и говорит: «Я про тебя слыхал. Ты по университетам ездишь и всех обжуливаешь!» Я говорю: «Ну да, Спенсер».