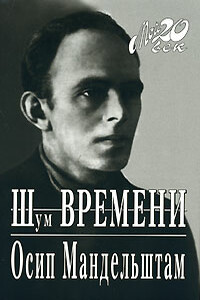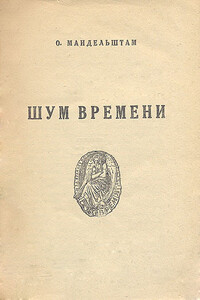Полное собрание сочинений и писем в 3 томах. Том 1 | страница 8
Новое у Мандельштама в этой области — стремление сохранить обособленность «чужого слова». Он выделяет его в смысловом строе стихотворения и дополнительными средствами усиливает его диалогическую функцию. Удачи на этом пути позволили Мандельштаму предельно увеличить смысловую емкость стиха («уплотненность», «удельный вес» — слова из арсенала манифестов акмеизма периода его «бури и натиска»). Мандельштам хорошо знал это свойство собственной поэтики и сравнивал свой стих с «брюссельским кружевом», где «воздух» — чужое слово: «Настоящий труд — это брюссельское кружево, в нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» («Четвертая проза»).
Отвечая на вызов времени в 1930-е годы, Мандельштам изменяет способ творческого воплощения (идейно ему соответствует путь к месту гражданского поэта). Место культурного «чужого слова» занимает слово анонимное — фольклор, ненормативная лексика, элементы жаргона газеты и канцелярии. Свою речь поэт насыщает новообразованными словами (окказиональные неологизмы: жизняночка, самосогласье) и шире пользуется первоначальным смыслом слов (явление реэтимологизации). Поэзия Мандельштама приобретает совершенно новое лицо и в то же время сохраняет легко узнаваемый мандельштамовский стиль: принадлежность культуре собственного слова резко усиливается за счет контрастов, высокого эмоционального накала, резкости и очерченности смысловых планов.
Инструментом поэтики Мандельштама остается метафора. Здесь уместно напомнить о том, что метафора как лингвистическое явление есть одно из средств познания мира, в том числе познания научного[19]. Раскрывая свою поэтику в «Разговоре о Данте» (1933), Мандельштам писал: «Я сравниваю — значит, я живу, — мог бы сказать Дант... Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение» (черновая запись). Основное средство диалога с «чужим словом» в стихе Мандельштама — развертывание (реализация) метафоры «чужого слова». Мандельштам в равной степени совершенствует все элементы стиха — ритм (ему врожденный), строфику, мелодику, приводя их в гармоническое равновесие. «Мандельштам решает одну из труднейших задач стихового языка. Уже у старых теоретиков есть трудное понятие “гармонии” — “гармония требует полноты звуков, смотря по объятности мысли”, причем, как бы предчувствуя наше время, старые теоретики просят не смешивать в одно “гармонию” и “мелодию”»