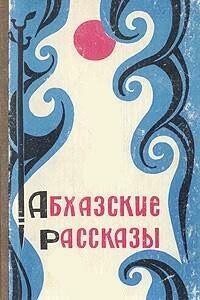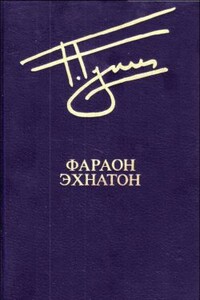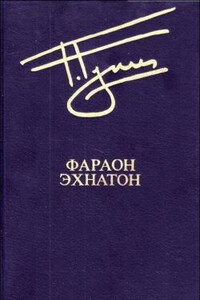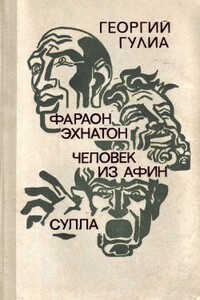Дмитрий Гулиа | страница 54
Это стихотворение блеснуло, словно молния. Оно призывало к борьбе со злом, с самым главным социальным злом. Сила «Ходжана Великого» была бы в сотни раз меньшей, если бы не его великолепная форма, если бы не свободная, яркая, точная манера письма. Как в этом, так и в других стихах Гулиа никогда не поступался смыслом в угоду рифме или ритму. Стихи как бы сами собой отливались в неповторимую форму, которую можно смело назвать гулиевской. Стихи эти невыносимо трудны для перевода. Зоя Кедрина пишет: «Многообразно ярки стихи Д. Гулиа: они то лиричны, то сатирически остры, то романтичны, но всегда открыто сердечны, ясны по мысли и прозрачны по форме». Все эти слова можно в полной мере отнести к первому сборнику. В этой книге, как в фокусе увеличительного стекла, отразилось все многообразие поэзии Гулиа, о котором говорит Зоя Кедрина.
Вызвав ненависть читателя к Великому Ходжану, пригвоздив кровопийцу острым словом, Гулиа предоставляет самому богу завершить дело тризной. Он пишет:
Переводится это приблизительно так: «Право, мне жаль Ходжан-ду! Знал лишь прибыли он цену, но и он узнал беду: ввергнул бог его в геенну!» Итак, Ходжан убит морально, а кремация, оказывается, за богом. Так кончаются эти стихи.
Я помню, как в тридцатых годах некоторые абхазские критики с серьезным видом писали о «мистических и религиозных мотивах» в творчестве Гулиа. Кстати, и этот господь бог, главный сотрудник адского крематория из «Ходжана Великого», тоже вызывал «недоумение». Я помню, как один переводчик даже видоизменил текст, «поручив» народу покончить с кровопийцей Ходжаном. Автору приписывалась «проповедь христианского смирения». И это в стихах «Ходжан Великий»! Даже ребенку ясно, что библейские образы в поэзии не признак религиозного фанатизма. Гулиа перевел евангелие, и, как утверждают знатоки, перевел блестяще, но я не помню, чтобы отец осенял себя когда-либо крестным знамением. Он относился к тому разряду людей, которых хорошо охарактеризовал Омар Хайям: «Полубезбожники и полумусульмане». (Здесь, в применении к абхазцам, следует перефразировать: «полухристиане».)
Была еще одна зловещая фигура в старой Абхазии: это тунеядец, бездельник, обжора и пьянчужка. Ему безразлична судьба народа. Главная забота его: пить и есть за счет других. Это опасные трутни, которым чуждо все, что близко его соотечественникам. Такому ничего не стоит предать своих друзей; с его точки зрения, грош цена всему, что дорого народу: родная грамота, родная культура, родной язык. Он едва шевелит пьяным языком, мелет бог знает что, ночует там, где застанет его ночь. Одним словом, это гуляка, «ищите хоть месяц — сыскать не удастся второго такого лентяя абхазца». Он должен исчезнуть навсегда, нет такому места среди честных людей! — говорит поэт.