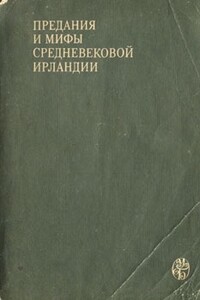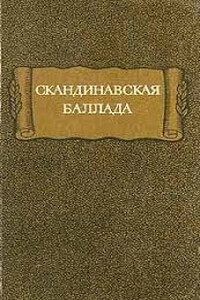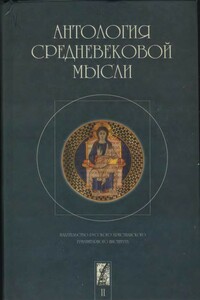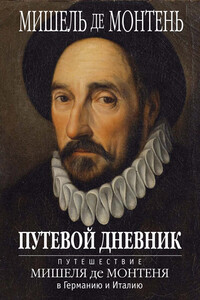Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 9
В классической античной литературе понятие поэтического «рода», «жанра» сложилось само собой — в силу того, что произведениям эпическим, лирическим и драматическим был присущ и свой собственный способ исполнения и свои особые стихотворные размеры. Слушатель, воспринимавший то или иное поэтическое произведение, не должен был задумываться над тем, к какому роду поэзии его отнести. Даже исторические сочинения воспринимались на слух. Известно, что Геродот читал свою «Историю» перед слушателями.
Однако чем больше вступало в силу письменное закрепление сочинений любого жанра, в стихах и в прозе, и чем больше становилось людей, уже не слушающих, а читающих произведения литературы, тем более шаткими становились границы как между родами произведений поэтических, так и между поэзией и прозой вообще. Смешение жанров было знакомо уже эллинистической литературе. Так, например, трудно сказать, к лирике или эпосу причислять буколический жанр (позднейший теоретик литературы и комментатор «Буколик» Сервий изобрел для них термин «промежуточный род»). Еще больше сдвинуты границы в «Менипповой сатуре», смешивающей прозу и стихи, или в «Александре» Ликофрона, излагающей длинное эпическое повествование размером, свойственным драме.
Римская литература, тоже попытавшаяся в свой классический период провести точное разделение между эпической поэмой, одой и драмой, уже в I в. н. э. создала особый, греческой литературе неведомый, род «драмы для чтения», какими являются, по признанию большинства исследователей, трагедии Сенеки. Такое же взаимопроникновение разных жанров произошло и в области прозы. Исторические сочинения, развившиеся из записей логографов и анналистов, приняли в себя настолько мощную струю ораторского искусства, что у поздних историков она оказалась едва ли не основной в их писаниях.
Такое положение дел на поприще литературы надо все время иметь в виду, приступая к знакомству с латинской литературой раннего средневековья, когда одни авторы, пытаясь удержать какие-то традиции и пережитки античной литературы, хватались то за один, то за другой поэтический или прозаический жанр, другие же, либо недостаточно искушенные в античном наследии, либо сознательно боровшиеся против него, создавали произведения, к которым можно полностью применить Сервиев термин «промежуточный род».
Начнем с тех, которые стоят ближе к эпическим поэмам. Может быть, именно этому роду пришлось пережить наиболее резкие изменения при переходе на новую идеологическую почву. Античный эпос был всецело связан либо с героическим прошлым Греции и Рима, либо с общеизвестными мифологическими сюжетами. Хотя поэты II—III вв. не раз сами высказывали мнение, что вся эта тематика устарела и приелась (об этом говорили, например, греческий поэт Оппиан и римский Немесиан, пытаясь заменить мифологические темы естественнонаучными), но освободиться от всей системы эпических сюжетов и приемов никому из позднейших поэтов не удалось. Даже те, кто лишь номинально примкнул к победоносному христианству, как Авсоний, сохранили в своих сочинениях набор античных языческих эпитетов и сравнений.